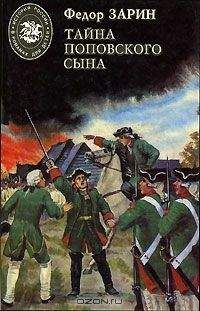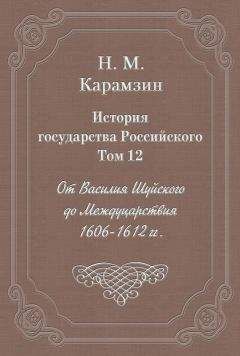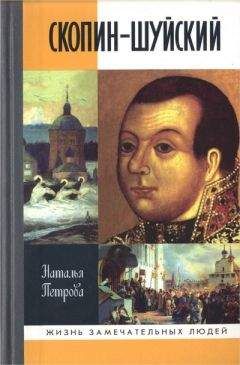Однако, прибыв в Киев, в Печерский монастырь, он признался игумену в своем царском происхождении. Игумен возмутился:
— Изыди, сатана! И чтоб глаза мои тебя боле не зрели!
Но Гришке, как говорится, вожжа под хвост попала. Он все более и более входил в роль сына Ивана Грозного и явился в польские пределы весьма кстати. Польша, раздираемая противоречиями, жила в черном предчувствии всенародного восстания. Измученные гнетом и голодом крестьяне ждали только предводителя — второго Наливайку[11].
Польскому магнату Мнишеку очень приглянулся «царский сын», с помощью которого он надеялся поправить свои финансовые дела. Любивший роскошь и жизнь на широкую ногу, он был весь в долгах, как в шелках (даже королю задолжал), и поэтому с радостью согласился помочь воротить российскую корону законному наследнику. Он даже представил сына Грозного королю Сигизмунду III и хотя тот официально отказался поддержать эту авантюру, поскольку с Россией у Польши был мир, однако разрешил Мнишеку частным порядком собрать для «царевича» армию, надеясь тем самым назревающий взрыв направить в русскую сторону.
Отрепьев, проживая в доме Мнишека, влюбился в его дочь Марину и попросил ее руки, Юрий Мнишек дал согласие, но с условием, что свадьба должна состояться в Москве, когда жених станет царем.
Прежде чем двинуться на завоевание престола, между высокодоговаривающимися сторонами был заключен тайный договор, так называемые «кондиции», по которому будущему тестю помимо миллионных выплат передавалась вся Северская земля с городами, царице — навечно Новгород и Псков со всеми пригородами. Не забыт был и король, ему по «кондициям» доставался Смоленск, которым предполагалось погасить долг царского тестя.
Щедрость будущего царя была безгранична. Потребовалась его душа, он и ее запродал — принял католическую веру. Мало того, в одном из пунктов «кондиций» обещал в течение года после воцарения ввести католичество по всей России, а православие уничтожить.
Отрепьев был неглупым человеком и хорошо понимал, что последнее вряд ли удастся исполнить, но как все русские надеялся на авось. Авось пронесет, главное — сесть на престол. Но Мнишека попросил:
— Пожалуйста, никому пока не говорите, что я католик.
— Почему?
— Иначе никто не пойдет за мной.
— Ну что ж, до Москвы помолчим, ваше величество, — усмехнулся Мнишек.
Он был воеводой сандомирским и старостой самборским, поэтому относительно быстро собрал армию добровольцев, любящих поживиться за чужой счет. Себя Мнишек назначил гетманом этого сброда.
Многим польским магнатам не нравилась эта затея, они пытались даже помешать переправе армии «царевича» через Днепр. Однако быстро распространившийся слух, что «идет настоящий царь», «Добрый Дмитрий Иванович» воодушевлял простой народ. 13 октября 1604 года Лжедмитрий вступил в русские пределы.
Первые же северские города под давлением черни сдавались самозванцу почти без боя. Настоящее сопротивление Лжедмитрию оказал Новгород-Северский, где гарнизоном командовал опытный воевода Басманов. Потери самозванца при этом были столь внушительны, что гетман Мнишек сразу поскучнел и засобирался назад в Польшу. А чтоб отъезд его не выглядел бегством, сказал Лжедмитрию:
— Соберу там новые силы и приду на помощь.
С ним и некоторые ясновельможные покинули самозванца, им не нравилось, что слишком много черных людей пристало к войску. Но именно чернь усиливала армию Дмитрия. Именно черные люди сдавали ему города, часто приводя к царю на суд повязанных воевод и бояр. И если последние присягали на верность ему, он не только даровал им жизнь, но и доверял командование отдельными отрядами. Кто отказывался присягать «вору и расстриге», того немедленно убивали на глазах у всех, как это случилось в Чернигове с дворянином Воронцовым-Вельяминовым.
В Москве царское правительство громогласно разоблачало самозванца, называя не иначе как «вором-расстригой Гришкой Отрепьевым». Однако простой народ, многажды обманываемый царями, и на этот раз не верил правительству: «Брешет Борис, неправдой сед и тут омманывает».
А между тем армия «вора» росла и неспешно двигалась к столице, громя встречные царские отряды, а то и получая от них хорошую трепку, от которой набиралась только опыта. Пополнялось войско не только крестьянами, но и казачьими отрядами, прибывавшими с Дона и Запорожья.
После смерти царя Бориса, последовавшей в апреле 1605 года, на престол взошел его сын Федор, и это окончательно погубило молодую годуновскую династию. Правительницей при юном царе стала его мать Мария Григорьевна — дочь Малюты Скуратова, казнившего в свое время деда и отца Басманова. Не в отместку ли царице лучший воевода Басманов, до этого вполне успешно сражавшийся против самозванца, тут же перешел вместе с полком на его сторону? Присягнул ему и был верен лжецарю до самой его смерти!
У боярской верхушки не было другого выбора, как присягать «расстриге и вору», признавая в нем царя Дмитрия, которого с нетерпением и восторгом ждали низы.
Однако вступать в Москву самозванец не спешил, боялся. Дабы узнать настроение народа в столице, он послал туда Пушкина и Плещеева со своей грамотой.
С помощью казаков атамана Андрея Корелы посланцы вошли в Китай-город и с Лобного места прочли царскую грамоту, в которой природный царь Дмитрий Иванович обвинял Годуновых, что они «…о нашей земле не жалеют, да и жалеть было им нечево, потому что чужим владели».
Одобрительным ропотом отозвалась толпа на сии слова, переглядывались мужики: «Во наконец-то слова природного государя, радетеля земли Русской».
— Читай шибчее! — кричали с задних рядов. — Не слышно-о!
И Гаврила Григорьевич Пушкин читал, надрывая глотку:
— … А которые воеводы и бояре ратоборствовали против нас своего государя, мы в том их вины не видим. Они посыланы были злодеем Годуновым под страхом отнятия живота и творили сие неведомостью. Мы их прощаем и призываем верной службой заслужить свои вины… Пусть мир и тишина воцарятся в нашей державе, я прощаю всех, кого осудили Годуновы. Отворите темницы, сбейте оковы с несчастных, утрите слезы обиженным.
Взвыла, заорала торжествующая площадь:
— Здравия нашему государю Дмитрию Ивановичу!
Еще бы, никто не мог припомнить, какой это государь утирал слезы обиженным, отворял все тюрьмы, сбивал оковы.
— Это наш государь!
— Наш природный! Наконец-то!
Кинулись толпы к тюрьмам, сбивая у темниц охрану: «Государь велел!» Растворяли тяжелые двери, кричали радостно:
— Выходи, браты! Прощены все!
Бежали по улицам в истлевшем рванье вчерашние сидельцы, галдели восторженно:
— Дмитрий Иванович ослобонил! Здравия ему, нашему благодетелю!
Пушкин и Плещеев не ожидали такого воодушевления от толпы. Их потащили на Красную площадь: «Там надо читать грамоту государя».
Гаврила Григорьевич взглянул вопросительно на Корелу, гарцевавшего тут же: «Как, мол, быть?»
— Не трусь, дьяк, — подмигнул весело атаман. — Куй, пока горячо.
Стрельцы, посланные было из Кремля навести порядок, не допустить чернь на Красную площадь, увидев эту ревущую, торжествующую лавину, разбежались. И когда Пушкин с Плещеевым добрались туда, там на Лобном месте только что освобожденные из тюрем показывали свои спины, исполосованные на дыбе кнутом, сожженные огнем груди:
— Глядить, православные, что сделали с нами эти годуновские каты[12]!
Бушевала Красная площадь, грозила в сотни кулаков Кремлю. Едва посланцы Дмитрия явились у Лобного места, как им тут же было дано слово:
— Читайте государеву грамоту. Тиш-е-е. Слухайте государево слово.
Пушкин снова развернул хрустящий свиток. Основа читал, надрывая голос. И посадил-таки его. Обернувшись к Плещееву, просипел:
— Наум Михалыч, выручай. Дочитывай. Едва закончил Плещеев словами: «…сбить оковы, утереть слезы обиженным», как чей-то звонкий голос прокричал:
— Смерть предателям Годуновым!
— Сме-е-ерть! — взвыло тысячеголосое чудище.
И толпа устремилась к Фроловским воротам, которые со скрипом стали затворяться.
Выслушав подробный рассказ своих посланцев в Москву о внезапно всколыхнувшемся восстании, Дмитрий спросил:
— Так вы считаете, москвичи готовы меня принять?
— Да, ваше величество, — отвечал Пушкин. — Москва ждет вас.
Самозванец взглянул на Плещеева.
— Да, да, — подтвердил тот. — Москва уже ваша, государь.
— Ну что ж, спасибо за труды. Да? А что с Годуновыми? Их убили?
— Они попрятались, ваше величество.
— Попрятались? — поморщился царь. — Ступайте, друга. Еще раз спасибо.
После их ухода он обернулся к Маржерету, стоявшему за спиной: