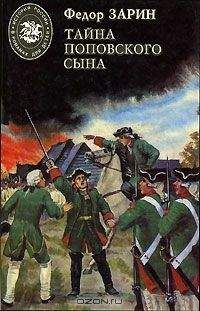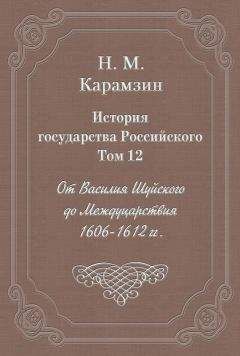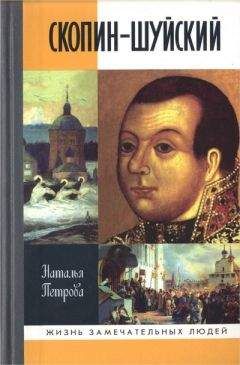У крыльца годуновского дома спешились, бросив поводья коноводам. Голицын первым ступил на крыльцо, сверху оглянулся, покачал головой: внизу уже клубилась жадная до зрелищ толпа: что-то будет?
Вошли в большую прихожую с деревянными колоннами. Голицын обернулся, нашел глазами Михаила Молчанова:
— Ты берешь царицу с царевной, — и к Шерефединову: — Тебе — царь. Всех вместе не надо. Разведите по комнатам.
— А где они? — спросил Молчанов.
— Наверху. Ступайте. И сразу назад.
Молчанов и Шерефединов, сопровождаемые кучкой стрельцов, затопали по лестнице вверх.
Голицын остался внизу, он нервничал, ходил взад-вперед, потирая ладони, словно они мерзли у него. Вдруг остановился, прислушиваясь. Наверху началась какая-то возня, топот ног, короткий вскрик. Потом стихло. Хлопнула там дверь. И вот уже на лестнице появился Молчанов, бледный, но улыбающийся какой-то деланной улыбкой. Подошел к Голицыну:
— Все, Василий Васильевич, придушил старуху.
— А царевну?
— Не велено. С ней государь поиграться хочет.
— Потом, когда разойдется толпа, увези Ксению на подворье Мосальского.
— Хорошо. Спрячем.
Наконец наверху лестницы явился Шерефединов в сопровождении возбужденных стрельцов. Он прикладывал ко рту правую ладонь, молвил подходя:
— Все, князь. Дело сделано.
— Что у тебя с рукой?
— Да царенок кусучим оказался, зацепил меня саблей. Не хотел помирать, зараза. Едва большой палец не стесал. Хорошо, ребята подмогли.
— Хоть не поранили его?
— Не. Как велено было — придушили. Лицо целое.
— Ладно. На всякий случай оставайтесь здесь, будьте готовы к драке.
— Неужто кинутся, Василий Васильевич? Ведь оне им надоели хуже горькой редьки.
— Не думаю. Но на всякий случай будьте готовы.
Голицын, застегнув верхние пуговицы кафтана, решительно направился к выходу. Стрелец распахнул перед ним дверь.
Выйдя на крыльцо, перед которым гудела толпа человек в двести — триста, князь поднял руку, требуя тишины и внимания.
И толпа стихла. Дождавшись, когда и шиканье друг на друга прекратилось внизу, Голицын громко сообщил:
— Мы прибыли сюда по велению государя Дмитрия Ивановича, дабы взять за караул Годуновых. Но бывшая царица Мария и царь Федор, убоявшись праведного суда за их злодейства, приняли яд. Да упокоит Господь души их, — князь размашисто перекрестился.
Закрестились и в толпе: «Туда им и дорога», «Собакам собачья смерть».
Из реплик, доносившихся снизу, Голицын понял, что ему не поверили, но и не думали осуждать. «Зря опасался. У Годуновых не осталось защитников. Дмитрий, или кто он там, может смело въезжать в столицу. Чернь у него в кармане».
Басманов в сопровождении самых преданных ему лично стрельцов въехал через Фроловские ворота в Кремль и направился мимо Чудова монастыря прямо к Успенскому собору. За ними потянулся черный народишко, откуда-то проведавший: «По Ионину душу». Проболтался ли кто из стрельцов басмановских, а скорее просто догадались, уж очень патриарх изгалялся над именем государя: «Вор! Расстрига! Самозванец!» Вот и приспело ему за это наказание.
Басманов чувствовал настроение черни, а посему действовал решительно и смело, как когда-то дед его, Алексей Данилович, изгонявший из храма митрополита Филиппа[14]. Сегодня Петр должен показать, что он достойный внук своего деда. Тот изгонял по велению Ивана Грозного, внук — по приказу его сына Дмитрия Ивановича.
Подъехав к Успенскому собору, все спешились и, глядя на своего начальника, оставили шапки на луках своих седел, чтоб не снимать их перед входом в храм, а там иметь руки свободными. Крестясь, ступили на низкие ступени собора. Из храма доносилось пение, шла служба. Может быть, и сабли следовало оставить на седлах, но раз Басманов не сделал этого, то и стрельцы последовали его примеру.
Войдя в храм, Басманов решительно направился к аналою, за которым стоял седой попик, монотонно читая из книги, разложенной перед ним:
— …Господи, помилуй нас, на тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших…
— Где Иов? — перебил его Басманов.
— Архисвятитель в алтаре, — пролепетал испуганно старик. Замерли молящиеся, на хорах оборвалось пение. Басманов прошел в алтарь, увидел сидящего на скамеечке с бархатной обивкой патриарха с посохом в руке, в сияющей золотом митре[15], в изукрашенной ризе.
— Ну, изменник, — вскричал Басманов, чтоб слышно было по всему храму. — Выходи к народу, держи ответ!
— Ты что?! — возмущенно поднялся старик. — В алтарь оружным. Изыди!
— Изыдем, хрыч, с тобой вместе.
Басманов схватил владыку за длинную белую бороду, потащил из алтаря. Кто-то из стрельцов отнял у патриарха посох, другой сорвал с головы митру, обнажив седые реденькие волосы, третий толкал бесцеремонно в спину.
— Вы что? Вы что? Побойтесь Бога, — лепетал Иов, не имея сил противиться насилию.
Вытащив патриарха к аналою, от которого уже скрылся священник, Басманов громко воззвал к молящимся, оцепеневших от увиденного — испуганного патриарха с развевающимися сединами, влекомого из алтаря стрельцами.
— Православные! Ваш архипастырь изменил законному государю, он продался Годуновым. Он поносил принародно богохульными словами природного царя Дмитрия Ивановича. Государе стоит у порога Москвы, так неужто мы станем терпеть такого архипастыря?
Народ онемел. И тут стрельцы, заранее подготовленные Басмановым, дружно вскричали:
— Низложить! Низложить злодея!
— Низложить, — пролепетал кто-то в толпе неуверенно.
— Разбалакайте его! — скомандовал Басманов, и стрельцы стаей псов набросились на старика.
Стащили ризу, оплечье, вытряхнули из епитрахили[16]. Но когда схватились за панагию[17], Иов заплакал как ребенок:
— Оставьте, Христом-Богом молю!
Не оставили. Откуда-то явились монашеская черная ряса, клобук, видимо приготовленные заранее. Плачущего старика облачили во все это и повели, поволокли из храма сквозь расступающуюся толпу православных. И никто не защитил его, никто слова против насильников не молвил. Слишком тяжелые обвинения были предъявлены Иову: поношение царя и верность ненавистному Годунову. Кто посмеет защитить такого преступника? У кого две головы на плечах?
В Серпухов, откуда должен был выступить царь на Москву, пригнали более двухсот коней с царской конюшни, привезли царскую карету, сверкающую золотыми накладками и серебряными спицами.
И хотя Москва уже была очищена от неприятелей Дмитрия, он все еще боялся ее. Признаваться в своих страхах никому не хотелось, но Басманову все же он сказал:
— Петр Федорович, я вверяю вам свою безопасность и надеюсь на ваше старание.
— Не изволь беспокоиться, государь, я знаю свое дело.
С вечера обговорили, как будет двигаться царский поезд. Впереди и сзади царской кареты Басманов предложил пустить конных стрельцов, но Дмитрий мягко отклонил это предложение:
— Нет. Стрельцы пусть едут в голове обоза. А перед каретой пусть будет капитан Доморацкий со своей ротой, за каретой Маржерет с рыцарями, за ними атаман Корела с казаками. И пожалуйста, Петр Федорович, отрядите надежных конников проверять дорогу впереди, дабы не въехать нам в какую западню.
— Помилуйте, государь, дорога от Серпухова до Москвы очищена от разбойников. О какой западне речь?
— Я верю вам, Петр Федорович, но все же, как говорится, береженого Бог бережет. Сделайте, как я прошу.
— Хорошо. Будь по-вашему.
На неширокой дороге царский поезд растянулся едва ль не в три версты. Двигался он неспешно. Поэтому перед самой Москвой у Коломенского пришлось заночевать.
Туда же прибыли бояре во главе с Мстиславским, привезли Дмитрию царские одежды, только что изготовленные. Опашень столь густо был вышит золотом, что стоял коробом.
— Да на коня в нем не сесть, — пошутил Дмитрий, одев его. Шапок привезли три — маленькую тафью, усыпанную жемчугом, способную лишь прикрыть макушку, колпак, тоже изукрашенный драгоценностями с собольей оторочкой, и высокую горлатную[18] шапку из соболей.
— А где ж шапка Мономаха? — спросил Дмитрий.
— Ею, государь, будем покрывать твою главу при венчании на царство, — пояснил Мстиславский.
— А-а, понятно, — отвечал, несколько смешавшись, Дмитрий. — Надену вот эту.
Он не задумываясь выбрал горлатную шапку, своей высотой она прибавляла ему росту. Увы, царь был невысок и как все коротышки тайно страдал от этого, поэтому и обувь заказывал себе на высоком каблуке. Так что горлатная шапка была весьма, весьма кстати.
Приведен был из конюшен и верховой вороной конь под изукрашенным седлом с серебряными стременами и пышной попоной из бархата с золотыми кистями по углам. Конь должен был следовать за каретой.