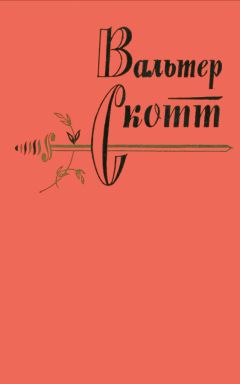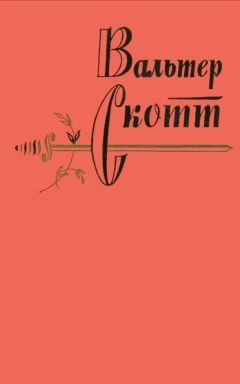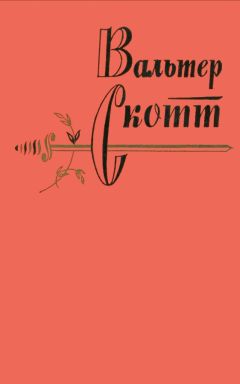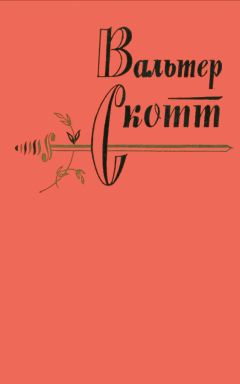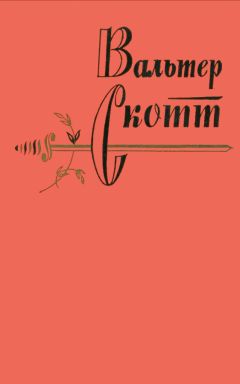— Вряд ли, однако, — сказал я (не без тайного умысла вызвав собеседника на откровенность, в надежде услышать что-нибудь интересное для моей новой темы), — вряд ли в тюремной хронике будет достаточное разнообразие событий.
— Разнообразие будет бесконечное, — возразил молодой адвокат. — Все, что есть в жизни необычайного и страшного, — преступление, обман, безумство, неслыханные бедствия и невероятные повороты фортуны, — всему этому будут примеры в моей «Последней исповеди Эдинбургской темницы»; их будет достаточно, чтобы удовлетворить даже ненасытный аппетит публики, всегда падкой до чудес и ужасов. Романист тщетно ломает голову, стараясь разнообразить свою повесть, но как редко удается ему найти образ или положение, которые еще не примелькались читателю! И похищение, и смертельная рана, от которой герой никогда не умирает, и опасная горячка, от которой героиня наверняка выздоровеет, оставляют читателя равнодушным. Подобно моему другу Краббу, я никогда не теряю надежды и полагаюсь на тот пробковый пояс, на котором герои романа благополучно выплывают из любой пучины.
Тут он с большим чувством прочел следующий отрывок:
Боялся я. Но не боюсь теперь
Узнать, что красоту терзает зверь
И что в темницу ввергнута она,
Коварному злодею отдана.
Пусть ров глубок, и стены высоки,
И на дверях железные замки,
Страж у дверей, бездушен и жесток,
Не променяет долг на кошелек.
Пускай мольбы утихнут, не задев
Сердца мужей и сердобольных дев,
И с высоты тюремного окна
Пусть не решится броситься она.
И помощь так безмерно далека,
Что не дождаться целые века.
И все же сочинитель сыщет путь,
Чтобы свободу узнице вернуть.
Когда развязку можно угадать, — заключил адвокат, — книга теряет всякий интерес. Вот отчего никто нынче не читает романов.
— Что я слышу! — воскликнул его приятель. — Верите ли, мистер Петтисон, — когда бы вы ни навестили сего ученого мужа, вы всегда найдете у него последний модный роман — правда, искусно спрятанный под «Юридическими институциями» Стэра или «Судебными решениями» Моррисона.
— Разве я отрицаю это? — сказал юрист. — Да и к чему? Ведь известно, что эти пленительные Далилы завлекали в свои сети многих людей куда умнее меня. Разве мы не найдем романов среди бумаг наших известнейших адвокатов или даже под подушками судейского кресла? Мои старшие коллеги в адвокатуре и суде читают романы; а некоторые, если только это не клевета, даже сами их сочиняют. Про себя скажу, что я читаю по привычке и по лености, но не из подлинного интереса. Как шекспировский Пистоль, когда он ел свой порей, я кляну книгу, но дочитываю ее до конца. Иное дело — подлинные повести о людских безумствах, записанные в судебных отчетах; прочтите их — и вам откроются новые страницы человеческого сердца и такие повороты судьбы, какие ни один романист не решился бы измыслить.
— И подобные повести, — спросил я, — вы предполагаете извлечь из истории Эдинбургской темницы?
— В большом изобилии, дорогой сэр, — ответил Харди. — Позвольте, кстати, наполнить ваш стакан… Не там ли в течение многих лет собирался шотландский парламент? Не там ли укрылся король Иаков, когда разъяренная толпа, подстрекаемая мятежным проповедником, ворвалась туда, крича: «Да падет меч Гедеона на голову нечестивого Амана!» А с тех пор сколько сердец изнывало в этих стенах, сколько людей отсчитывало там последние часы своей жизни, сколько их отчаивалось при ударах часов! Сколько их искало поддержки в упорстве и гордости, в непреклонной решимости! Сколько их искало утешения в молитве! Одни, оглядываясь на совершенные ими преступления, недоумевали, как могли они поддаться искушению. Другие, в сознании своей невиновности, негодовали на несправедливость суда и тщетно искали пути доказать свою правоту. Неужели повесть об этих глубоких и сильных страданиях не вызовет столь же глубокого волнения и интереса? Дайте мне только издать шотландские «Causes celebres»[6], и вы надолго насытитесь трагедиями. Истина всегда торжествует над созданиями самого пылкого воображения. Magna est veritas, et proevalebit.[7]
— Мне всегда казалось, — заметил я, ободренный любезностью моего говорливого собеседника, — что летописи шотландского правосудия должны быть в этом смысле менее богаты, чем в любой другой стране. Высокий нравственный уровень нашего народа, его трезвость и бережливость…
— Сокращают число профессиональных воров и грабителей, — сказал адвокат, — но не спасают от безумных заблуждений и роковых страстей, рождающих преступления более необычные, а именно они и вызывают наибольший интерес. В Англии цивилизация существует гораздо дольше; люди там издавна привыкли подчиняться законам, применяемым неукоснительно и обязательным для всех; там каждому отведено в обществе определенное место; самые преступники составляют особую общественную группу, которая, в свою очередь, подразделяется на несколько категорий, сообразно способам хищений и их объектам. Эти сообщества тоже подчиняются известным правилам и обычаям, и они уже достаточно известны на Боу-стрит, в Хэттон-гарден и в Олд-Бейли. Наша соседка Англия подобна возделанному полю, где пахарь знает, что вместе с посевом, несмотря на все его старания, взойдет известное количество сорняков, и может заранее назвать и описать их. Шотландия же в этом отношении подобна собственным своим горным лощинам. Моралист найдет столько же исключительного в наших судебных летописях, сколько ботаник находит редкостных растений среди наших скал.
— И это все, что ты извлек из троекратного чтения комментариев к шотландскому уголовному законодательству? — спросил приятель адвоката.
— Их ученый автор не подозревал, что примеры, с такой тщательностью и эрудицией собранные им для иллюстрации юридических концепций, могут быть превращены в какие-то приложения к растрепанным томам библиотеки романов.
— Поспорю на пинту кларета, — сказал адвокат, — что это его не обидело бы. Но прошу не прерывать меня, как мы говорим в суде. Я еще немало мог бы порассказать из моих шотландских «Causes celebres». Вспомните, какие необычайные и дерзкие преступления порождались у нас долгими междоусобиями; или передачей судейских должностей по наследству, а это вплоть до 1748 года отдавало правосудие в руки людей невежественных или пристрастных; или нравами наших дворян, которые сидят по своим медвежьим углам и не впадают в полную спячку только потому, что лелеют чувства злобы и мстительности. Вспомните, наконец, ту приятную особенность национального характера, тот perfervidum ingenium Scotorum,[8] который наши законники приводят в оправдание суровости нашего законодательства. Когда я дойду до этих мрачных и зловещих дел, у читателя волосы встанут дыбом и кровь застынет в жилах… Но вот и наш хозяин. Должно быть, экипаж подан.
Оказалось, однако, что экипажа нет и не будет до утра, ибо сэр Питер Плайем только что перед тем угнал единственную четверку здешних лошадей в старинный город Баблбург, куда он направился по делам выборов. Но так как Баблбург — только один из пяти городишек, которые совместно выбирают одного депутата в парламент, то соперник сэра Питера воспользовался его отсутствием для проведения энергичной кампании среди избирателей другого городка, Битема, который, как известно, граничит с поместьем сэра Питера, а потому с незапамятных времен всецело подвластен роду Плайемов. Сэр Питер оказался, таким образом, в положении воинственного монарха, который, углубившись на неприятельскую территорию, вынужден немедленно возвратиться, чтобы защищать собственные владения. Сэру Питеру пришлось вернуться из наполовину завоеванного Баблбурга в чуть было не потерянный им Битем; так что четверка лошадей, доставившая его утром в Баблбург, снова понадобилась, чтобы везти его вместе с его управляющим, слугою, приживалом и собутыльником обратно в Битем. Эти объяснения хозяина нимало не заинтересовали меня, как, вероятно, и читателя; но спутникам моим они показались столь интересны, что вполне примирили их с задержкою. Они встрепенулись, как боевые кони при звуке трубы, заказали хозяину комнату и целых полгаллона кларета и занялись обсуждением политической ситуации в Баблбурге и Битеме, а также всех «жалоб, кассаций и апелляций», которые из нее непременно воспоследуют.
В разгаре оживленного — но для меня совершенно непонятного — разговора о мэрах, судьях, старшинах и секретарях городских корпораций, об избирательных списках и цензе оседлости адвокат вдруг спохватился: «А как же бедняга Дановер? Мы о нем совсем позабыли!» За pauvre honteux[9] послали хозяина с настоятельным приглашением провести остаток вечера вместе. Я спросил молодых людей, что им известно о несчастном. Адвокат полез в карман за делом своего клиента.