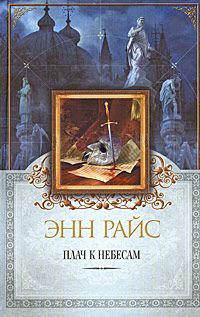— Ты меня любишь?
— Да.
Он тут же почувствовал ее теплое и нежное объятие и на мгновение застыл, чтобы продлить сладкое ощущение.
Когда они пересекали площадь, он танцевал, держась за руку матери. Все были там! Он отвешивал поклон за поклоном, чьи-то руки теребили его волосы, прижимали его к надушенным юбкам. Молодой секретарь отца, синьор Леммо, семь раз подбросил мальчика высоко в воздух, пока мать не остановила его. А его красавица тетушка Катрина Лизани, с двумя сыночками на буксире, откинула покрывало и, подхватив Тонио на руки, прижала к своей благоухающей белой груди.
* * *
Но как только они вошли в огромную церковь, Тонио замолчал.
Никогда прежде не доводилось ему видеть подобное зрелище. Повсюду, опоясывая мраморные колонны, горели свечи и факелы, ярко вспыхивавшие при каждом порыве ветра из открытых дверей. На огромных куполах сияли ангелы и святые, и все стены, арки и своды вокруг пульсировали золотом, мерцали миллионами и миллионами крошечных граней.
Не произнеся ни слова, Тонио вскарабкался на руки матери, как на дерево. Она даже качнулась под его тяжестью и засмеялась.
А потом по толпе, как треск разгорающихся щепок, пробежал ропот восторга. Затрубили фанфары. Тонио неистово завертел головой, пытаясь определить их местоположение.
— Смотри! — прошептала ему мать, схватив за руку.
А над головами людей, на огромном троне под развевающимся балдахином, появился дож. Воздух наполнился резким, тяжелым запахом ладана. А фанфары заиграли еще громче и пронзительнее.
А потом появились члены Большого совета в сверкающих одеяниях.
— Вон твой отец! — воскликнула мать Тонио, едва не задыхаясь от полудетского возбуждения.
Показалась высокая, костлявая фигура Андреа Трески. Рукава его одеяния волочились по полу, седые волосы походили на львиную гриву, а глубоко посаженные выцветшие глаза смотрели в одну точку, так же как глаза статуи, что была перед ним.
— Папа! — не удержался от возгласа Тонио.
Кто-то обернулся. Мать старалась побороть смех. И в это время советник заметил в толпе сына. Его взгляд тут же дрогнул, лицо совершенно изменилось, и он улыбнулся почти восторженной улыбкой, а глаза его оживленно заблестели.
Мать Тонио покраснела.
Но тут внезапно, словно из воздуха, раздалось пение — мощное пение высоких, ясных голосов. У Тонио перехватило дыхание. Какое-то мгновение он не мог двигаться, совершенно потрясенный, а потом вздрогнул и поднял глаза кверху. Резкий свет тут же ослепил его.
— Не вертись! — сказала мать, еле удерживая его на руках.
А пение становилось все более мощным и полнозвучным.
Оно накатывало волнами с другой стороны огромного нефа, и одна мелодия переплеталась с другой. Тонио казалось, что он это видит — гигантскую золотую сеть, брошенную в волнистое море, сверкающее на солнце. Словно сам воздух был залит звуком. А только потом он заметил певцов — высоко у себя над головой.
Они стояли на двух огромных хорах по левую и правую сторону; рты были открыты, а лица светились отраженным светом. Они были похожи на ангелов с мозаичных панно.
Тонио тут же свалился на пол, почувствовав, как по плечу скользнула рука матери, пытавшейся поймать его. Мальчик продрался сквозь скопление плащей и юбок, пропахших духами и зимним воздухом, и увидел перед собой дверь, которая вела на лестницу.
Когда он лез наверх, ему казалось, что стены вокруг дрожат, точно струны органа, и совершенно внезапно он очутился там — в самом тепле хоров, среди этих высоченных певцов.
Возникло легкое замешательство. Тут же он оказался у самых перил и заглянул в глаза одного великана — именно великана, а не человека, — с голосом чистым и прекрасным, как звук фанфар. Этот человек пел одно великое слово: «Аллилуйя!», и оно звучало по-особенному, как призыв, обращенный к кому-то. И все остальные мужчины, стоявшие позади великана, подхватывали этот клич, повторяя его вновь и вновь, так что одно слово накатывало на другое, подобно волне.
А с другой стороны церкви второй хор вторил первому, наращивая и наращивая звук.
Тонио открыл рот. И запел. Он выпевал то же одно-единственное слово одновременно с певцом-великаном и вдруг почувствовал на плече теплую руку. Певец кивал ему, и в его больших и несколько сонных карих глазах читалось: «Да, продолжай!» А потом Тонио прижался к худому — он сразу почувствовал это через одежду — боку этого человека, и тут же вокруг его талии обвилась рука и его подняли вверх.
Внизу блистало все собрание: дож на своем троне, члены Сената в пурпурных одеяниях и все патриции Венеции в белых париках, но Тонио не отрывал глаз от лица певца, завороженный тем, что их голоса звучат в унисон. Тонио не чувствовал своего тела, ибо был вознесен в воздух слившимися воедино голосами — своим и певца. Он видел наслаждение в сверкающих глазах мужчины, из которых улетучилась сонливость. И все удивлялся тому мощному звуку, что вырывался из груди этого человека.
* * *
Когда все окончилось и мальчик снова был водворен на руки матери, она обратилась к великану, отвесившему ей глубокий поклон:
— Благодарю тебя, Алессандро.
* * *
— Алессандро, Алессандро, — шептал Тонио, уже сидя в гондоле. А потом, прижавшись к матери, с отчаянием спросил: — Мама, когда я вырасту, я буду так петь? Я буду петь так, как Алессандро? — Он был не в силах объяснить. — Мама, я хочу быть одним из этих певцов!
— О Боже, Тонио, нет! — Она рассмеялась. И, как-то странно махнув рукой его нянюшке Лине, подняла глаза к небесам.
* * *
Поднимаясь на крышу, все домашние без умолку болтали и вздыхали. Взглянув же на устье Большого канала и с нетерпением ожидая увидеть то беспредельное очарование тьмы, в которую обычно была погружена лагуна, Тонио вздрогнул: вся акватория была охвачена заревом — на воде плясали сотни и сотни фонарей. Ему показалось, что по морю разлилось все мерцающее освещение собора Сан-Марко. Благоговейным шепотом мать сообщила ему, что государственные мужи совершают поклонение мощам святого Георгия.
Вокруг царила тишина, лишь свистел ветер, давным-давно сломавший хрупкую решетку разрушенного сада на крыше. Повсюду, шурша на ветру сухими листьями, лежали поваленные, мертвые деревья, все еще привязанные корнями к перевернутым горшкам с землей.
Тонио склонил голову. Теплая рука матери легла на нежный изгиб его шеи, и он ощутил безмолвный и жутковатый страх, заставивший еще ближе прижаться к ней.
* * *
Той же ночью, укрытый до подбородка в своей постели, он не спал. Мать лежала на спине, чуть приоткрыв губы, и ее угловатое лицо стало мягче, словно помимо ее воли. Близко посаженные глаза, столь непохожие на его собственные, были чрезвычайно серьезны, брови нахмурены и сдвинуты к переносице, так что казалось, что она не только не спит, но, напротив, на чем-то предельно сосредоточена.
Откинув покрывала, Тонио босиком соскользнул на холодный пол.
Он знал, что ночью на улицах выступают уличные певцы. Распахнув деревянные ставни, прислушался, вскинув голову, и наконец уловил в отдалении слабые звуки чьего-то высокого голоса. За ним последовал бас, шероховатая разноголосица струнных, и с каждой фразой мелодия становилась все выше, все шире.
Ночь была туманной, и не удавалось различить ни формы, ни силуэты, лишь ореол единственного факела внизу. Тонио слушал эту песню, прислонив голову к сырой стене и обхватив колени, и вдруг ему показалось, что он сейчас там, на хорах собора Сан-Марко. Голос Алессандро уже покинул его, но осталось ощущение — плавное, как сон, течение музыки.
Он раздвинул губы и пропел несколько высоких нот одновременно с далекими певцами на улице и вдруг снова почувствовал руку Алессандро на своем плече.
Но что вдруг задело его? Что стало досаждать ему, подобно попавшей в глаз мошке? В его сознании, всегда столь четком и пока еще незамутненном науками, снова возникло ощущение мягкой ладони, лежащей на его шее, всплыл образ колышущегося рукава, поднимающегося и поднимающегося кверху, к плечу. Всем доселе известным ему высоким людям приходилось наклоняться, чтобы приласкать такого маленького мальчика, как Тонио. Но он вспомнил, что даже там, на хорах, посреди пения, его поразило, как свободно легла на его талию та рука.
Она казалась чудовищной, волшебной, эта рука, подхватившая его, обхватившая его грудную клетку так, точно он был игрушкой, и взметнувшая его высоко-высоко — в музыку.
Но песня терзала его, вытягивала из этих воспоминаний, как и всякая мелодия, рождавшая отчаянные мечты о клавесине, на котором играла мать, или о ее тамбурине, или хотя бы об одновременном звучании голосов их обоих. О чем угодно, что могло бы продлить эту мелодию. Так, дрожа на подоконнике, он и сам не заметил, как заснул. Лишь в возрасте семи лет он узнал, что Алессандро и все высокие певцы собора Сан-Марко были кастратами.