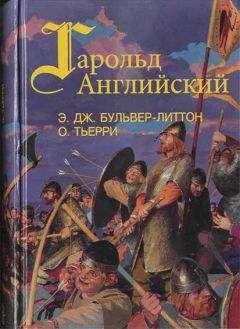Сверкающий взор рыцаря встретился с взором Хильды; в глазах ее светилось глубокое презрение, к которому примешивался непроизвольный ужас.
– Дорогое дитя! – произнесла она, опустив нежно руку на роскошные кудри своей милой Эдит, – вглядись в этого рыцаря и постарайся запомнить его черты! Это тот человек, с которым ты увидишься только два раза в жизни!
Молоденькая девушка подняла на него прекрасные глаза. Туника незнакомца из дорогого бархата темно-алого цвета была в резком контрасте с белоснежной одеждой короля-исповедника; его мощная шея была совсем открыта; накинутый на плечи короткий плащ с меховой подбойкой не скрывал его груди, а грудь эта казалась способной не поддаться напору целой армии, и руки, очевидно, обладали несокрушимой силой. Он был среднего роста, но казался на вид выше всех остальных, и это подчеркивалось его гордой осанкой, исполненной холодного, сурового величия.
Но всего замечательнее было лицо рыцаря: оно цвело здоровьем и юношеской свежестью; незнакомец не следовал обычаю царедворцев, подражавших нормандцам; он брил усы и бороду и казался поэтому несравненно моложе, чем был на самом деле; на черные густые, глянцевитые волосы с синеватым отливом была слегка надвинута невысокая шапочка, украшенная перьями.
Вглядевшись повнимательнее в его широкий лоб, можно было заметить, что время оставило на нем неизгладимый след.
Складка, образовавшаяся между прямых бровей, наводила на мысль, что этот человек наделен от природы огненным темпераментом и сильным властолюбием, а легкие морщины, бороздившие лоб, обнаруживали наклонность к глубоким размышлениям; во взгляде его было что-то гордое, львиное; его маленький рот был довольно красив, подбородок говорил о железной, беспощадной воле; природа наделяет такими подбородками у звериной породы одного только тигра, а в семье человеческой – одних завоевателей, какими были Цезарь, Кортес и Наполеон.
Эта личность вообще отличалась способностью вызывать у женщин восторг и удивление, а у мужчин – глубокий непроизвольный страх. Но в пристальном взгляде Эдит не светился восторг: в нем выражался только тот глубокий, безмолвный и леденящий ужас, в котором застывает бедная птичка под обаянием взгляда змеи.
Молодая девушка сознавала в душе, что ей не забыть до гробовой доски этого повелительно-сурового лица, и образ этот будет стоять перед ней при ярком свете дня и в густом мраке ночи.
Этот пристальный взгляд утомил, очевидно, благородного рыцаря.
– Прекрасное дитя, – произнес он с надменно-приветливой улыбкой, – не следуй наставлениям твоей суровой родственницы, не учись относиться враждебно к чужестранцам! Могу тебя уверить, что и нормандский рыцарь способен подчиниться влиянию красоты!
Он отделил один из дорогих бриллиантов, придерживавших перья, украшавшие шапочку, и продолжал все с той же приветливой улыбкой:
– Прими эту безделушку на память обо мне, и если меня будут бранить и проклинать, а ты это услышишь, укрась этим бриллиантом свои чудные кудри и вспомни с добрым чувством о Вильгельме!
Бриллиант сверкнул на солнце и упал к ногам девушки, но Хильда не дала ей поднять подарок и отбросила его посохом под копыта коня короля Эдуарда.
– Ты рожден от нормандки, – воскликнула Хильда, – и она обрекла тебя провести всю твою молодость в томлениях изгнания: растопчи же копытами твоего скакуна дар этого нормандца. Ты так благочестив, что все твои слова достигают неба: все это говорят! Так молись же, король, да ниспошлет оно мир твоему отечеству и гибель чужестранцу!
Слова Хильды звучали так повелительно, в них было столько мрачного, сурового величия, что суеверный страх охватил всю свиту короля. Опустив покрывало, пророчица опять взошла на тот же холм. Добравшись до вершины, она остановилась, и вид ее высокой неподвижной фигуры усилил еще больше панику, вызванную предшествовавшей сценой.
– Едем дальше! Живее! – скомандовал король, осенивший себя широким крестным знамением.
– Нет, клянусь всем святым! – воскликнул герцог Нормандский, устремив свои черные блестящие глаза на кроткое лицо короля Эдуарда. – Терпение человека должно иметь пределы, а подобная дерзость способна возмутить самых невозмутимых, и если бы жена самого знаменитого из нормандских баронов, то есть жена Фиц-Осборна, дерзнула бы затронуть меня подобною речью...
– То ты бы поступил точно таким же образом, – перебил Эдуард, – ты простил бы ее и отправился далее!
Губы герцога Нормандского задрожали от гнева, но он не проявил его ни одним резким словом, а, напротив того, взглянул на короля почти с благоговением. Вильгельм не отличался особенной терпимостью к человеческим слабостям и поступал нередко с полной беспощадностью, но в нем было развито религиозное чувство, и глубокая набожность короля-исповедника, его кротость и мягкость привлекали к нему все симпатии герцога. История доказала, что люди, одаренные несокрушимой волей, привязывались к кротким и нежным существам; это было доказано той восторженной преданностью, с которой относились дикие и невежественные обитатели Севера к искупителю мира: они плакали, слушая его кроткие заповеди, они благоговели перед его святой и безупречной жизнью, но не имели сил побороть свои дикие и порочные страсти и подражать ему в чистоте и смирении.
– Клянусь Создателем, что я люблю тебя и смотрю на тебя с глубоким уважением! – воскликнул герцог Нормандский, обратясь к королю, – и будь я твоим подданным, я разнес бы на части всякого, кто рискнул бы порицать тебя! Но кто же эта Хильда? Не сродни ли тебе эта странная женщина? В ее жилах течет, судя по ее смелости, королевская кровь.
– Да, Вильгельм bien-aime, эта гордая Хильда, да простит ее Бог, доводится родней королевскому роду, но не тому, которого я служу представителем! – отвечал Эдуард и, понизив голос, прибавил боязливо: – Все думают, что Хильда, принявшая христианство, осталась ревностной сторонницей язычества и что поэтому какой-то чародей или даже злой дух посвятил ее в тайны, не совместные с духом христианской религии! Но мне приятнее думать, что испытания жизни повлияли отчасти на ее здравый смысл!
Король вздохнул, сокрушаясь о заблуждении Хильды, герцог устремил взор, исполненный гневного и гордого презрения на фигуру пророчицы, продолжавшей стоять с неподвижностью статуи на вершине холма, и сказал потом с мрачным, озабоченным видом:
– Так в жилах этой ведьмы течет на самом деле королевская кровь? Но я хочу надеяться, что у нее нет наследников, способных предъявить какие-нибудь права на саксонский престол!
– Нет, но жена Годвина ее близкая родственница, а это обстоятельство чрезвычайно важно! – ответил Эдуард. – Ты знаешь, как и я, что хоть изгнанный граф не делает попыток, чтоб завладеть престолом, но это не мешает ему желать неограниченной и безраздельной власти над нашими народами.
И король принялся рассказывать Вильгельму историю жизни Хильды.
Славные люди были те отважные воины, которые получили впоследствии название датчан. Хотя они старались погрузить покоренные ими народы во мрак прежнего невежества, но тем не менее положили начало просвещению других, свободных от их ига. Шведы, норвежцы, датчане имели много общего в главных чертах характера и расходились только в некоторых частностях. Все они отличались неутомимой деятельностью и стремлением к свободе; их понятия о чести были крайне ошибочны, но они обладали особенной общительностью и уживались легко с другими племенами; в этом и заключалось резкое их различие с нелюдимыми кельтами.
Да!
«Frances li Archivesce li dus Rou bauptiza»[8].
И не прошло еще столетия после этого крещения, как потомки этих закоренелых язычников, не щадивших прежде ни алтаря, ни его священнослужителей, сделались самыми ревностными защитниками христианской церкви; старинное наречие было забыто, за исключением остатков его в городе Байе; древние имена их превратились во французские титулы, и нравы франко-нормандцев до того изменили их, что в них не осталось ничего прежнего, кроме скандинавской храбрости.
Таким же образом племена, кинувшиеся в Англосаксонию для грабежа и убийств, сделались в сравнительно короткое время одной из самых «патриотических частей» англосаксонского населения, как только великий Альфред успел подчинить их своей власти.
В то время, с которого начинается наш рассказ, эти нормандцы жили мирно, под названием датчан, в пятнадцати английских графствах.
Самое большое число их находилось в Лондоне, где они даже имели свое собственное кладбище. Национальное собрание датчан в Витане решало выбор королей, и вообще они совершенно слились с англосаксами. Еще и теперь в одной трети Англии провинциальное дворянство, купцы и арендаторы происходят от викингов, женившихся на саксонских девушках[9]. Было вообще мало разницы между нормандским рыцарем времен Генриха I и саксонским таном из Норфолка и Йорка: оба происходили от саксонских матерей и скандинавских отцов.