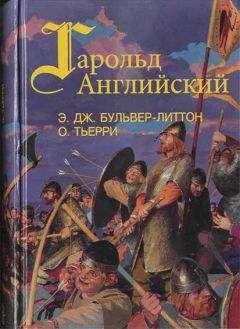Но, хотя эта гибкость была одной из характерных черт характера скандинавов, были, разумеется, и исключения, в которых неподатливость их была просто поразительна. Норвежские хроники, так же, как и некоторые места нашей истории, доказывают, до какой степени фальшиво относились многие из поклонников Одина к принятому ими христианству. Несмотря на то, что они принимали святое крещение, в них все же оставались прежние языческие понятия. Даже Харальд[10] сын Кнута жил и царствовал как человек «отверженный от христианской веры», потому что он не был в состоянии добиться помазания на царство от кентерберийского епископа, принявшего к сердцу дело брата его, Хардекнута.
В Скандинавии священники часто принуждены были смотреть сквозь пальцы на многие беззакония, типа многоженства и тому подобного. Если даже они и искренно вступали в христианство, то тем не менее не могли отрешиться от всех своих суеверий. Незадолго до царствования Эдуарда Исповедника, Кнут Великий издал множество законов против колдовства и ворожбы, поклонения камням, ручьям и против песен, которыми величали мертвецов; эти законы предназначались для датских новообращенных, так как англосаксонцы, покоренные уж несколько веков тому назад, душой и телом были привержены христианству.
Хильда, происходившая из датского королевского дома и приходившаяся Гюде, племяннице Кнута, двоюродной сестрой, прибыла в Англию год спустя после восшествия на престол Кнута, вместе со своим мужем, упрямым графом, который, хотя и был крещен, но втайне все еще поклонялся Одину и Тору. Он пал в морском сражении, происходившем между Кнутом и святым Олавом Норвежским. Заметим мимоходом, что Олав неистово преследовал язычество, что ничуть не мешало ему самому придерживаться многоженства. После него даже царствовал один из его побочных сыновей, Магнус. Муж Хильды умер последним на палубе своего корабля, в твердой надежде, что валькирии перенесут его прямо в Валгаллу.
Хильда осталась после него с единственной дочерью, которую Кнут выдал замуж за богатого саксонского графа, происходившего от Пенда, короля Мерсии, ни за что не хотевшего принять христианство, но говорившего из осторожности, что не будет препятствовать своим соседям сделаться христианами, в случае если они только, действительно, будут жить по-христиански, то есть в мире и согласии. Этельвольф, зять Хильды, впал в немилость Хардекнута, потому что был в душе более саксонцем, чем датчанином; бешеный король не посмел, однако, представить его открыто в Витане, но отдал насчет него тайные приказания, вследствие чего последний и был умерщвлен в объятиях своей жены, которая не перенесла этой потери. Таким образом дочь их, Эдит, перешла под опеку Хильды.
По причине той же гибкости, отличавшей скандинавов и заставлявшей их переносить всю свою любовь к родине на приютившую их страну, Хильда тоже так привязалась к Англии, как будто родилась в ней. По живости же воображения и вере в сверхъестественное, она осталась датчанкой. После смерти ее мужа, которого она любила неизменной любовью, душа ее с каждым днем все более и более обращалась к невидимому миру.
Чародейство в Скандинавии имело различные формы и степени. Там верили в существование ведьмы, врывавшейся в дома пожирать спящих людей и скользившей по морю, держа в зубах остов волка-великана, из громадных челюстей которого капала кровь; признавали и классическую вёльву, или сивиллу, предсказывавшую будущее. В скандинавских хрониках много рассказывается об этих сивиллах: они были большею частью благородного происхождения и обладали громадным богатством. Их постоянно сопровождало множество рабынь и рабов, короли приглашали их к себе для совещаний и усаживали на почетные места. Гордая Хильда со своими извращенными понятиями, избрала, конечно, ремесло сивиллы: поклонница Одина не изучала ту часть своей науки, которая могла бы, с ее точки зрения, служить интересам черни. Мечты ее устремлялись на судьбы государств и королей; она желала поддерживать те династии, которым должно было царствовать над будущими поколениями. Честолюбивая, надменная, она внесла в свою новую обстановку предрассудки и страсти блаженной поры давно минувшей молодости.
Все человеческие чувства ее сосредоточивались на Эдит, этой последней представительнице двух королевских семейств. Стараясь проникнуть в будущее, она узнала, что судьба ее внучки будет тесно связана с судьбой какого-то короля; оракул же намекнул на какую-то таинственную, неразрывную связь ее угасавшего рода с домом графа Годвина, мужа ее двоюродной сестры, Гюды. Этот намек заставил ее более прежнего привязаться к дому Годвина. Свейн, старший сын графа, был сначала ее любимцем и поддался ее влиянию, вследствие своей впечатлительной и поэтической натуры. Когда семья Годвина отправилась в изгнание, вся Англия отнеслась к Хильде с величайшим сочувствием, но не отыскалось ни единой души, которая вздохнула бы с сокрушением о Свейне.
Когда же вырос Гарольд, второй сын графа, то Хильда полюбила его еще больше, чем Свейна. Звезды уверяли ее, что он достигнет высокого положения, а замечательные способности его подтверждали это пророчество. Привязалась она к Гарольду отчасти вследствие предсказания, что судьба Эдит связана с его судьбою, а отчасти оттого, что не могла проникнуть дальше этого в будущее их общей судьбы, так что она колебалась между ужасом и надеждой. До сих пор ей еще не удавалось повлиять на умного Гарольда. Хотя он чаще своих братьев посещал ее, на лице его постоянно появлялась недоверчивая улыбка, как только она начинала говорить с ним в качестве предсказательницы. На ее предложение помочь ему невидимыми силами, он спокойно отвечал: «Храбрец не нуждается в ободрении, чтобы выполнить свою обязанность, а честный человек презирает все предостережения, которые могли бы поколебать его добрые намерения».
Замечательно было то обстоятельство, что все, находившиеся под влиянием Хильды, погибали преждевременно самым плачевным образом, несмотря на то что магия ее была самого невинного свойства. Тем не менее народ так почитал ее, что законы против колдовства никак не могли быть применимы к ней. Высокородные датчане уважали в ней кровь своих прежних королей и вдову одного из знаменитейших воинов. К бедным она была добра, постоянно помогала им и словом, и делом, со своими рабами обращалась тоже милостиво и потому могла твердо надеяться, что они не дадут ее в обиду.
Одним словом, Хильда была замечательно умна и не делала ничего, кроме добра. Если и предположить, что некоторые люди известного темперамента, обладающие особенно тонкими нервами и вместе с тем пылкой фантазией, могли, действительно, иметь сообщения со сверхъестественным миром, то древнюю магию никак нельзя сравнить с гнилым болотом, испускающим ядовитые испарения и закрытым для доступа света, но следует уподобить ее быстрому ручью, журчащему между зеленых берегов и отражающему в себе прелестную луну и мириады блестящих звезд.
Итак, Хильда и прекрасная внучка ее жили тихо и мирно, в полнейшей безопасности. Нужно еще добавить, что пламеннейшим желанием короля Эдуарда и девственной, подобно ему благочестивой, его супруги было посвятить Эдит Богу. Но по законам нельзя было принуждать ее к этому без согласия опекунши или ее собственного желания, а Эдит никогда не противоречила ни словом, ни мыслью своей бабушке, которая не хотела и слышать о ее вступлении в храм.
Между тем как король Эдуард сообщал нормандскому герцогу все, что ему было известно и даже неизвестно о Хильде, лесная тропинка, по которой они ехали, завела их в такую чащу, как будто столица Англии была от них миль за сто. Еще и теперь можно видеть в окрестностях Норвуда остатки тех громадных лесов, в которых короли проводили время, гоняясь за медведями и вепрями. Народ проклинал нормандских монархов, подчинивших его таким строгим законам, которые запрещали ему охотиться в королевских лесах; но и в царствование англосаксов простолюдин не смел преступить эти законы под страхом смертной казни.
Единственною земною страстью Эдуарда была охота, и редко проходил день, чтобы он не выезжал после литургии со своими соколами или легавыми в леса. Соколиную охоту он, впрочем, начинал только в октябре, но и в остальное время постоянно брал с собой молодого сокола, чтобы приучить его к охоте, или старого любимого ястреба.
В то время как Вильгельм начал тяготиться бессвязным рассказом доброго короля, собаки вдруг залаяли, и из чащи вылетел внезапно бекас.
– Святой Петр! – воскликнул король, пришпоривая коня и спуская с руки знаменитого перегринского сокола.
Вильгельм не замедлил последовать его примеру, и вся кавалькада поскакала галопом вперед, любуясь на поднимавшуюся добычу и тихо кружившегося вокруг нее сокола.