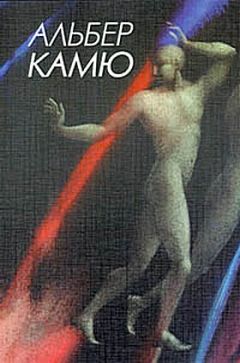К несчастью, другая сторона тоже ответила стихами. Девятого ноября Цвейг сделал запись в дневнике о «маленькой катастрофе в моем существовании». Его учитель, его отец, его идеал, его великий бельгийский друг Верхарн разразился строками, которые немецкие и австрийские газеты перепечатывали как страшилку. Это были первые стихи бельгийца, переведенные на немецкий язык не Стефаном Цвейгом. Цвейг, зная о намерении Верхарна писать о войне, умолял его, через их общего друга Ромена Роллана, «передавать в стихах, а значит, и потомкам только факты, чью достоверность он может подтвердить». Но Верхарн превратил самые ужасные слухи о зверствах немцев в лирические истины. Изнасилованные девственницы, отрезанные женские груди, отрубленные ступни детей в карманах немецких солдат. Такие образы пьянили поэта, воспевавшего жизнь, которым восхищался Цвейг.
Какое печальное солнце, свидетель о Фландрии,
О женщинах в огне, о городах в пепле,
О долгих ужасах и мгновенных злодействах,
Коих алчет и жаждет германский садист.
Стефан Цвейг был потрясен: кому он отдал свою любовь, пред кем благоговел? Эти строки написаны тем самым человеком, который олицетворял для него все лучшее в Европе и который учил его тому, «что лишь совершенный человек может стать великим поэтом». В отчаянии Цвейг спрашивал себя, не были ли ложью его переводы, его стихи, вся его жизнь.
Худшее в этом стихотворении о Бельгии – обвинение в варварстве. Утверждение, будто немцы ведут эту войну неблагородными, варварскими средствами. Тогда как война, считал Стефан Цвейг, – это прежде всего доблесть и готовность жертвовать собой ради достойной и полезной цели. И враг должен вести себя подобным же образом. «Для меня, будь я офицером, величайшим счастьем было бы выступить против культурного врага», – писал он, сын венского текстильщика, своему немецкому издателю Киппенбергу [9]. У Цвейга было очень романтическое представление о войне. Всадник с изысканными манерами и саблей наголо, которому противостоит цивилизованный противник, например французы.
В эти месяцы он завидовал не только победам немцев, но прежде всего их врагам. Цвейг хотел бы воевать, но не против России, не против варваров, славян, врагов цивилизации. В письме к своему немецкому издателю он также дал ясно понять, за кого ему не хотелось бы воевать: за форпосты Дунайской монархии, которые в первые месяцы войны оказались в наибольшей опасности. Приграничные с Россией районы, где люди говорили на польском, русском или идише. Безвестные, далекие и злосчастные территории Востока. Цвейг писал Киппенбергу: «Теперь вам, должно быть, ясно, почему ни один австрийский интеллектуал не пошел добровольцем на фронт, а те, кто по долгу службы обязан был это сделать, хлопотали о переводе – нас ничто не связывает с теми землями, как вы сами понимаете. Броды для меня совсем не то же, что Инстербург [10]; судьба первого оставила меня равнодушным, судьба второго взволновала, когда я узнал, что он был оставлен! Есть только одна высшая связь; язык – наш дом в высшем смысле этого слова».
* * *
Да, на Броды Стефану Цвейгу было наплевать. Он их никогда не видел. Вряд ли кто в Вене тех лет вообще знал что-нибудь об этом заштатном галицийском городке на окраине Дунайской монархии. А если и знал, то лишь как синоним убожества, место, где жили ортодоксальные восточные евреи, бедные родственники ассимилированных почтенных западных евреев Вены. Броды были далеко. В Вене никто не хотел воевать за Броды – ни интеллектуалы, ни тем более Стефан Цвейг.
В этом маленьком приграничном местечке, оказавшемся в водовороте начавшейся войны, проживало менее двадцати тысяч человек. Три четверти составляли евреи. Когда-то Броды были процветающим вольным торговым городом, куда приезжали купцы из России, Польши и Австрии, но с тех пор как в 1879 году открыли железную дорогу Одесса – Лемберг (Львов) и поезда перестали останавливаться в Бродах, город словно отрезали от мира и забыли. Вот как вспоминал о нем один молодой писатель:
«Дома царил мир. Врагами были только ближайшие соседи. Пьяницы снова мирились. А конкуренты не причиняли друг другу вреда. Они отыгрывались на клиентах и покупателях. Все давали в долг всем. Все были должны друг другу. Никто никого ни в чем не мог упрекнуть.
О политических партиях знать не знали. Никто не делал различий между национальностями, ибо все говорили на всех языках. Евреев узнавали исключительно по их костюму и заносчивости. Иногда случались маленькие погромы, но в вихре событий они быстро забывались. Убитых евреев хоронили, а ограбленные божились, что не понесли никаких убытков».
Этот писатель был честолюбивый, талантливый еврей с коротко стриженными темными волосами, оттопыренными ушами, небесно-синими глазами и скептическим взглядом. При первой же возможности он бежал из Бродов.
Он был очень прилежным гимназистом и свои слова любил подкреплять категоричным «это факт», а потому к его имени Муня [11] очень скоро прилепилось дружеское прозвище Муня-Факт. Он воспитывался матерью Марией и жил в семье деда Иехиэля Грюбеля в доме богатого портного Кальмана Баллона на улице Гольдгассе. Своего отца он не знал. Известно было только, что еще до рождения сына тот уехал по делам и не вернулся. Одни говорили, что он тронулся умом. Другие – что его довел до белой горячки и свел в могилу зеленый змий.
Настоящее имя Муни – Йозеф Рот. В 1913 году он добрался до Лемберга, столицы Галиции, где поступил в университет, но уже через шесть месяцев подался в Вену. Его манили и одновременно пугали масштаб и великолепие австрийской столицы. Одна из первых прогулок привела его к дому писателя, которым он восхищался, которого хотел поблагодарить за книги и хотя бы мельком повидать или по крайней мере увидеть, где он живет. Так 1913 году [12] Йозеф Рот очутился перед квартирой Стефана Цвейга. У него не хватило духу позвонить. Потоптавшись перед запертой дверью, он повернул восвояси, не повидав своего кумира.
* * *
Летом 1914 года Йозеф Рот проводил каникулы в Галиции, дома в Бродах и в Лемберге. Весть об убийстве австрийского престолонаследника настигла его в кафе, где он сидел с другом Сомой Моргенштерном [13], рассказывая ему о своей учебе, о Вене. Они предчувствовали, что грядет война, для них она означала войну против России. И победу над Россией. Они жаждали поражения России. Они были еще детьми, когда в 1905 году Россия проиграла войну Японии. Тогда они ликовали. И теперь не сомневались, что победа будет за ними. Правда, лично их все это затрагивало мало.
Весело болтая о надвигающейся войне, они зашли в лучший во Львове еврейский трактир «Зенгут». Рот, выросший без отца, расспрашивал об отце Сомы Моргенштерна: как сильно он его любил и хотел ли, чтобы сын изучал право? Вдруг в трактир вошел старик, завсегдатай, борода клином. Рот завороженно смотрел на него. Любопытно, каким Моргенштерн видит себя в старости. Но тот еще не задумывался об этом. Да и вообще, мужчины в его семье подолгу не заживались. Однако Рот об этом думал часто и много. Он не сомневается, что доживет до глубокой старости. Своему изумленному другу он признался: «И вот каким я себя вижу: я худой старик. На мне что-то вроде черной мантии с длинными рукавами, которые почти полностью закрывают руки. Осень, я гуляю по саду, плету коварные заговоры против врагов. Против моих врагов и против моих друзей». Эту историю он впервые поведал Соме. Но будет рассказывать ее снова и снова, всю жизнь: он старик, с длинными рукавами и злыми кознями.