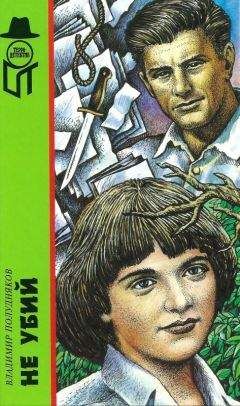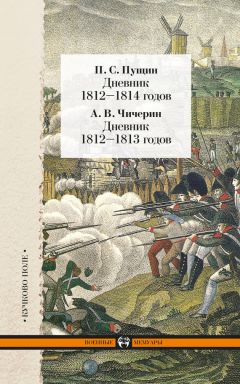— Все ваши же офицеры!.. — не утерпел указать на них смотритель.
— Благодарю вас, мосье, — коротко отрезал Сахновский. — Больше мы в вас не нуждаемся.
И сам притворил за ним дверь.
— Экое ведь, — говорит, — безобразие! И назад-то не потрудились поставить. Однако во что мы с вами отобранные книги укладывать будем? Хоть бы мешки с собой захватили…
— А что, подполковник, — предложил я ему, — на мебели тут прочные чехлы; в них бы и уложить?
— И то правда. Я вот займусь разборкой книг в этих шкафах, а вы приготовьте чехлы; потом наверху разберете книги на полках.
Снял я несколько чехлов с диванов и кресел; часть их отдав подполковнику, с остальными полез по витой лестнице в верхний ярус.
Начал я просмотр с нижних полок. Ученые все сочинения первой половины XVIII века, переплетенные уже не в сафьян, как в нижнем ярусе, а в свиную кожу. Выше — книги XVII века. Просмотрел, кое-что отложил; поднялся еще выше по приставной лесенке. Там, однако же, уже не печатные книги, а рукописные фолианты, так же в переплетах; но переплеты толстейшие, деревянные, на корешках только кожей обтянуты. Как стал я тут доставать тяжеловесные фолианты, меня целым облаком пыли окутало, и я расчихался.
— Что это с вами, корнет? — окликнул меня снизу подполковник.
— От пыли, — говорю, — на верхних полках здесь одни старинные рукописи; их годами не обметали. Стоит ли их, вообще, тревожить?
— Приказано все просмотреть; так рассуждать не приходится.
Делать нечего. Стал я пыльные рукописи перебирать одну за другою. Добрался, наконец, и до самой верхней полки. Вытаскиваю фолиант. Да неловко, видно, захватил: за ним сами собой уже вырвались несколько других и через перила грохнулись вниз к подполковнику.
— Что это вы, корнет, гранатами в меня пускаете? — кричит он мне оттуда не то сердито, не то шутливо.
— Виноват! — говорю и залезаю рукой в глубину полки до самой стенки: не завалилась ли туда еще какая рукопись?
И вдруг под пальцами у меня как бы булавочная головка. Нажал на нее — и в стенке с легким треском растворилась дверца.
Потайной ящик! Засунул туда руку, — столбики в бумажных свертках.
«Неужто золото?»
Достал один столбик, развернул, — так и есть: все золотые! Притом не наполеондоры, а двойные луидоры с портретами покойных королей Людовиков XV и XVI. Значит, положены сюда еще прежним владельцем замка, кардиналом графом Ломени де Бриенном. А если так, то нынешнее французское правительство на эту частную собственность не имеет никакого права; надо возвратить все законному наследнику — племяннику кардинала. Но кто это сделает? Мое начальство? Пойдет бесконечная переписка; меня же еще, чего доброго, заподозрят в утайке некоторой суммы…
Всего вернее самому весь клад из рук в руки передать законному собственнику.
Все это молнией пронеслось у меня в голове, и пять минут спустя все свертки до последнего исчезли в одном из чехлов. А снизу доносится уже голос Сахновского:
— Что, корнет, скоро вы будете готовы?
— Сейчас кончаю.
Тихонько притворил опять дверцу в стенке и заставил ее фолиантами; отобранные раньше книги упаковал в пустые чехлы и один за другим снес их вниз.
— Покажите-ка сюда, — говорит Сахновский, — все ли годится? А сами не возьмете ли чего-нибудь для чтения?
— Пару старых романов, — говорю, — я позволил себе уже отложить. Да хотелось бы взять еще на память кое-что из минералов…
— Берите, молодой человек, не стесняйтесь: все равно хозяев им уже нет.
Пошел я в кабинет натуральной истории, выбрал там несколько камней покрасивее и — опять в библиотеку, наверх, к своему чехлу с наполеондорами; уложил туда камни, сунул еще в придачу пару книг и плотно завязал, наконец, своим носовым платком, чтобы никому уже не вздумалось заглянуть внутрь.
Сахновский, в свою очередь, отобрал для главного штаба такую уйму книг, что пришлось нанять три подводы. Пока те нагружались, я подошел к управителю, который молча, но с сокрушением, наблюдал за погрузкой.
— Позвольте спросить: как вы назвали по имени племянника кардинала графа Ломени де Бриенн? Шарль-Луи?
— Шарль-Луи, — подтвердил он. — А вам, мосье, на что?
— Да, может, доведется еще встретиться в Париже. Ведь он живет в Париже?
— Не умею вам сказать. Отец его, родной брат кардинала, был при короле Людовике XVI военным министром, но во время революции сложил голову на гильотине. Сына своего он успел еще отправить в провинцию…
— И этот сын его, вы уверены, единственный наследник покойного кардинала?
— Единственный. Но наследства-то после кардинала, как я вам уже докладывал, никакого не осталось!
«Опричь того, — мог бы я ему возразить, — что у меня в этом чехле!» Но, понятно, ни ему, ни одной другой душе не сказал ни слова.
Вернувшись назад сюда, в Шомон, я заперся у себя на ключ и, все наследство графа Шарля-Луи де Бриенна выгрузив из чехла на стол, принялся его пересчитывать.
Свертки были все одной величины, и в каждом заключалось по 100 двойных луидоров. Всех же свертков было 60, итого, значит, б 000 двойных луидоров! А так как цена каждому такому двойному луидору — около 12 рублей, то предо мною на столе 72 тысячи рублей, — просто ума помрачение, дух захватывает…
Ну, а что, как кто-нибудь пронюхает, что у меня здесь такой капитал? Долго ли ограбить? И где мне сейчас собственника отыскать? Вот навязал себе обузу!
Битва под Фер-Шампеноазом и шуба полковника Захаржевского. — Бомбардировка и капитуляция Парижа. — «Да здравствует мир»
* * *
Бар-сюр-Об, февраля 12. По «стратегическим соображениям» Винценгероде из Соассона к Реймсу отошел. Само собою разумеется, что французы Соассон тотчас опять заняли. В сражении я ничего не смыслю; но никакой стратег меня не уверит, что столько жертв и геройства потрачено только для того, чтобы, завладев неприятельскою крепостью, ее тотчас опять отдать.
* * *
Троа, февраля 21. Соассон снова взят, и слава Богу!
* * *
Февраля 28. Два больших сражения: под Краоном и Лаоном. В первом французы верх одержали, во втором — союзники. Однако от этих двух боев и беспрестанных мелких стычек союзная армия сильно изнурена и нуждается в покое. Тем не менее, решено идти вперед, дабы поскорее завершить кампанию.
* * *
Марта 3. Под Реймсом победа снова осталась за Наполеоном. Наступление Главной армии приостановлено по всей линии.
* * *
Пужи, марта 10. Двухдневный жаркий бой под Арси. Против 100 тысяч союзной армии Наполеон мог выставить всего до 30 тысяч; поэтому, в конце концов, вынужден был отступить. Государь наш в первый же день, к несчастию, захворал лихорадкой и на второй день не мог быть на поле сражения. Шварценберг же, по обыкновению, упустил случай преследовать отступающих и окончательно доконать их.
* * *
Витри, марта 12. Обе наши армии, Главная и Силез-ская, доселе разобщенные, наконец, соединились. А парижане, как явствует из перехваченных писем, крайне уже тяготятся войной, коей конца-де, не видать. Наполеона клянут и о мире молитвы к Богу воссылают. Это дало решительный толчок всему делу: совещание монархов с генералами пришло к заключению, — избегая дальнейшего пролития крови, идти прямо на Париж.
* * *
Сел. Трефо, марта 14. Не хотели проливать кровь, да нежданно-негаданно под Фер-Шампеноазом натолкнулись на полчища неприятельских новобранцев, шедших наперерез нам на соединение с Наполеоном. И завязалось новое кровопролитное побоище, которое после лейпцигской «битвы народов» золотыми литерами тоже занесется в военные летописи XIX века.
— Ваше величество! — говорит государю великий князь Константин Павлович. — Мои кирасиры с самого Лейпцига не были в огне. Дозвольте им первыми идти в атаку?
— Пускай идут, — говорит государь. — А за ними пустим и остальную кавалерию. Подать мне коня!
Подали. Вести кирасир в атаку должен был дивизионный командир, полковник Захаржевский. Необычайно тучный, да к тому же и подагрик, он от похода шибко умаялся и заспался. Камердинер едва его добудился.
— Ваше высокородие! Французы… Велено идти сейчас в атаку.
— В атаку? Одеваться!
При помощи камердинера он наскоро оделся, натянул большие сапоги со шпорами.
— Шубу!
Во внимание к его подагре, Захаржевскому разрешено было, не в пример другим, носить енотовую шубу. Сам великий князь при 25–30 градусах мороза ездит ведь верхом в спенсере сверх мундира, и ему подражает все офицерство.
Накануне, однако, был проливной дождь. Шубу своего полковника камердинер выворотил наизнанку, мехом вверх, чтобы дать ей просохнуть. Мех просох, но стоял еще щетиной. И вот, спросонья, камердинер подал шубу в таком вывороченном виде; сам Захаржевский второпях того тоже не заметил.