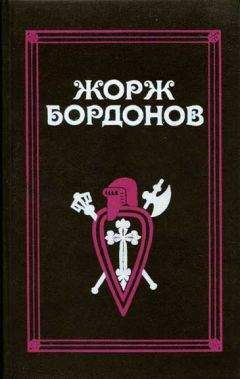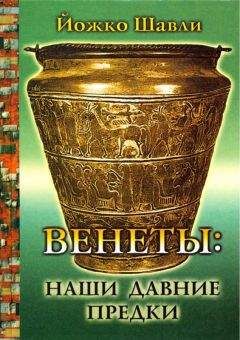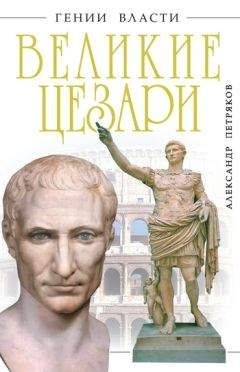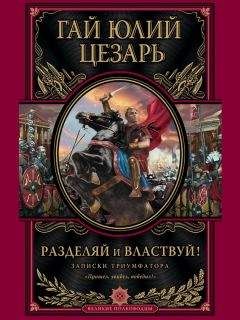Воцарялась тишина, позволяющая слышать дыхание земли; сосны, влажные от дождя, расправляли ветви, папоротники и кусты дрока серебрились каждой своей каплей. Появлялись пчелы, разнося по холмам слабое жужжание. Корабли напоминали уснувших чаек; ветра не было вовсе, и цепи якорей висели свободно… Помню, в какой-то из таких вечеров с одного из островов донеслось пение девочки. Ее голос звучал настолько отчетливо, словно она пела где-то рядом. Не знаю, оказало ли ее пение какое-нибудь воздействие на океан, но он внезапно напустил на острова воющий ветер, испещрил зеркальную поверхность залива узкими гребнями, стер лазурные краски с небосвода, заменив их бурыми. Сосны посерели. Воздух наполнился соленым запахом водорослей. Издалека доносились раскаты грома, ударили дождевые капли. С кораблей доносился скрип снастей. Все спешили в укрытие.
Мы жили в обыкновенной хижине, как и все наши соплеменники: круглой, обмазанной глиной и крытой ржаной соломой. Бренн уготовил для нас комнату в своем дворце, но Шиомарра отказалась туда идти:
— Неужели ты оставил бы своих воинов во время похода, Хириус, и не разделил бы их участь?
— Будь по-твоему, королева.
— Мы устроимся вместе с жителями Эпониака на Козьем острове.
Но это был лишь предлог. Мы хотели остаться среди своих, чтобы ничто не мешало нам быть как можно дольше наедине друг с другом. Мы еще не пресытились своей страстью. Каждое наше движение, каждое слово, каждый порыв были пронизаны какой-то экзальтированной радостью и непонятной тоской, словно мы уже знали о том, что принесет нам завтрашний день. Эти дни на одиноком острове, эта безграничная нежность в преддверии неизбежного, запомнились мне как самое глубокое погружение в тайны человеческой души.
Неподалеку от деревни находилось некое подобие храма: строение представляло собой уложенные на каменные блоки плиты, за века они обветрились и поросли травой. Внутрь храма вела узкая галерея, стены которой покрывали резные изображения ритуальных сцен и змей, пол был выложен из плоских камней. Галерея оканчивалась нишей, из которой на пришедшего смотрела золотая статуя человека с изумрудными глазами. По сравнению со статуями римских храмов этот золотой человек казался грубой поделкой. Но он олицетворял собой величие, мощь, сравнимую лишь с силой нашего Юпитера.
— Здесь лежат останки бога Эзуса, — сказал сопровождавший нас друид, — принца кельтов, покорителей Галлии. Их исторгло из своих недр ледяное северное море, Эзус и его воины прошли через бесконечные сосновые леса, переплыли широкие реки, прежде чем добрались до этих земель. Так говорят легенды.
Тебя, несомненно, удивляет, что я могу спустя столько лет восстановить до мелочей события почти каждого дня, проведенного у венедов, вспомнить их лица, слова, заново увидеть все, что меня окружало. Но, помимо того, что я обладаю очень ясной памятью, мне легко заглянуть в те дни благодаря тому, что они были насыщены удивительной новизной. Я чувствовал себя ребенком, впервые открывающим мир. Впечатления от жизни на удаленном острове, от близости священной гробницы, от трепета перед непокорной стихией были так сильны, что их трудно передать словами. Я могу написать о них лишь одно: нигде в другом месте — ни в лесу, окружающем Эпониак, ни в укромной комнате Верховного Дома, ни под открытым небом во время переходов — наша любовь не находилась в таком дурманящем согласии с природой и не была так отстранена от реальности.
О, Ливия, как ничтожны слова, которыми мы пытаемся передать чувства! Они не красноречивее шелеста листьев, скрипа гальки под ногами. Они способны передать легкие волнения души и плоти, но им не под силу озвучить внутренний диалог, который постоянно ведут любящие друг друга мужчина и женщина. Так же как осторожные муравьи песков Ламбезии не решаются подняться на верхушки дюн, обычные слова избегают сильных чувств. Бесполезно сожалеть об их бессилии. Кто мы такие, как не механизм? Хотя и думающий! Я могу лишь вспомнить, как выглядели наши следы на песчаном пляже Козьего острова. Но мне не донести до тебя волшебного очарования наших прогулок…
По этому пляжу, затерявшемуся среди скал, мы гуляли каждый вечер, когда могли позволить себе оставить работников, прокладывающих каналы. Мы приплывали туда на лодке и привязывали ее у подножья обступавших бухту скал… Не так уж много выпало на нашу долю этих вечеров. Слишком часто мы были вынуждены, взяв в руки лопату или кирку, собственным примером воодушевлять уставших людей. Шиомарра всегда была рядом. Незабываемое счастье — целовать ее заледеневшие на ветру скулы, слезящиеся от ветра глаза. Да, это настоящее счастье — любить женщину, которая не боится ни страданий, ни боли, ни труда и взгляд которой может быть столь светел. Счастье, которого я уже никогда не узнаю…
И все же, поручив работников верному Котусу, мы иногда прятались от посторонних взоров и наслаждались кратковременной свободой. Взявшись за руки, медленно шли по кромке воды, оставляя на влажном песке глубокие следы.
— Счастлив ли ты наконец? — спрашивала меня Шиомарра.
— Я боюсь потерять тебя. Любовь мучительна, если такое может случиться.
Ее прохладные, тонкие пальцы держали мой солдатский кулак. Так выброшенная морем водоросль облепляет камень.
— Ты никогда не перестанешь любить меня, я знаю это.
Ее губы были солеными.
Остров выступал из почти белой водной глади, точно верблюжий горб. У скал тихо плескалась вода, прибивая к береговой кромке длинные плети водорослей. Чайки, поджимая свои красные лапки, носились с криками у нас над головами. Одна из них села на воду и медленно перемещалась вместе с течением. Во время отлива мы собирали устриц, которых ели потом с хрустящими хлебцами, выпекаемыми островными жителями. Бывало, купались. Шиомарра выходила из воды такой свежей, такой ошеломляюще прекрасной, что я терял рассудок и увлекал ее в какой-нибудь укромный грот. Не забуду привкус ее губ. Я точно околдован самой искусной, самой искушенной в любви феей. А чайки все летали над нами с жалобными криками… На нашем острове нас ждали друзья: Петруллос, Гобаннито, Котус, лесорубы, кузнецы. За общим ужином мы обменивались новостями, обсуждали предстоящие испытания. Иногда к нам приезжал сам Хуриус, он стоял на носу лодки, и его длинные волосы развевались по ветру. Он привозил к столу то корзину с рыбой, то вязку дичи. Иногда местный бард соперничал с нашим лесным певцом. Нас навещал местный друид и заговаривал от вражьей руки, воодушевлял на подвиги.
С наступлением вечера на всех островах зажигались предупреждающие огни. Такие же огни горели на баркасах, развозящих по островам других союзников венедов, отряды, которые поступали затем в мое распоряжение.
Шиомарра была со мной веселой, когда и мне было весело, заботливой, когда я падал от усталости, бодрой, когда мне необходимо было побороть вялость. Ее слова всегда были нежными, а тело доступно, точно берег, отдающий себя океану. С материнской заботливостью она прижимала к своей груди мою склоненную в задумчивости голову; она была единственным маяком, который видело мое сознание. И никогда ни на что не жаловалась, накапливая для меня по крупицам радость, как пчела собирает цветочный нектар. Я же, недоверчивый, помнящий о коварстве римских женщин, не мог поверить в то, что подобная любовь может длиться долго. Утешая меня, она простодушно улыбалась:
— Во мне нет ничего необычного, Бойорикс. У нас все женщины такие. Ферлина могла бы быть даже лучшей женой, чем я.
Ферлина была дочерью короля Хуриуса, она была чем-то похожа на Шиомарру, такая же светловолосая и стройная.
Иногда мы разговаривали с ней о детях, которые когда-нибудь родятся от нашей нежности. Шиомарра подставляла для поцелуев свое тело и говорила:
— Там твоя страсть пустит корни…
Это были чудесные слова! Дорогая Ливия, когда ты снова окажешься в объятиях своего молодого мужа, когда вы вознесетесь на вершины человеческого счастья, отбрось ложную стыдливость, произнеси их, и ты узнаешь, что нет на свете ничего более важного и значительного.
Всего однажды она все же позволила себе признаться в терзающей ее тревоге, сказав:
— Любимый, пообещай, что, если я умру, ты отвезешь меня в наш лес, в Эпониак. А если умрешь ты, то я отвезу тебя к нашим, ты будешь спать в пещере Праведной горы. И вновь буду с тобой, когда маленькая Алода повзрослеет…
Ее руки обхватили мою голову, привлекли к себе на грудь. Поцеловав меня нежно, она прошептала:
— Но мы не умрем… мы будем жить… ты будешь любить меня…
Вскоре к берегам Дариорига подошел быстрый ялик. Это вождь намнетов прислал гонца для сообщения о том, что Цезарь прибыл в андский лагерь.
Бесконечная цепочка людей тянулась под затянутым тучами небом мимо ряда поставленных стоймя каменных глыб. Женщины и мужчины перемешались в этой толпе. Воины несли копья и щиты, низко надвинув свои шлемы, моряки сжимали абордажные топоры, их тела были скрыты под кожаными панцирями в медных бляшках. Во главе шествия шел совет друидов, одетых во все белое, как жрецы Эпониака, но их ученики носили зеленые и голубые туники. Разве что выражение их лиц было более суровым, чем у лесных собратьев, а верховный друид нес в руке не жезл с перевернутым месяцем, а посох с позолоченным торсом лошади. Следом шли вожди, владельцы судов, свита каждого из старейшин во главе с бренном Хуриусом. Его позолоченный шлем с подбородочным ремнем сливался, казалось, с космами его рыжей гривы.