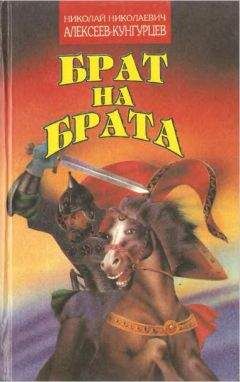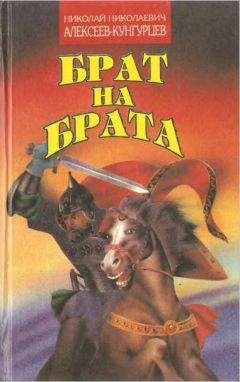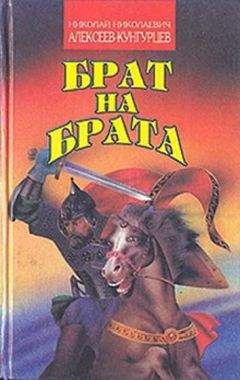— Бельского! — донеслось во дворец.
Глаза всех бояр, заседавших во дворце, моментально уставились на несчастного боярина. Он побледнел еще больше, съежился и вдруг, словно сорвался, бросился бежать, метнулся в одну сторону, в другую, кинулся в царскую спальню и забрался под кровать.
А из толпы неслись крики:
— Царя Ивана уморил! Злоумыслит извести царя Федора Ивановича!
Когда посланные вернулись, бояре уже хорошо знали, в чем дело. Никто из них не верил во взводимое на Бельского обвинение, но… но они помнили его надменность, помнили, что он был любимцем Грозного, знали, что он хочет верховодить в думе, а потому… нашли нужным судить его. Однако Борису Годунову, которого считали другом Бельского, этот суд, как думали, должен прийтись не по душе, но он не протестовал, и судбище сейчас же открылось. Несчастного боярина вытащили из-под кровати и привели. Он дрожал как осиновый лист, был жалок в своем страхе. Начался допрос, весь исполненный злобною мелочностью, злорадною возмояшостью безнаказанно жалить. Один Борис Федорович молчал. Обвиняемый кидал на него умоляющий взгляд, но лицо его друга было холодно и непроницаемо.
— Что же? Выдать его народу? — был выдвинут роковой вопрос.
Гробовое молчание было ответом.
— Отчего же и не выдать? — сквозило на многих лицах.
Бельский упал на колени перед царем, клялся в своей
невиновности, молил о пощаде — Федор бесстрастно смотрел на него.
— Борис! Ты! Ты скажи! — умоляюще обратился несчастный боярин к Годунову.
И тот сказал:
— Нет, выдать народу, думается мне, его нельзя…
Глаза обвиняемого радостно блеснули, опущенная голова
поднялась.
— Но, — продолжал Борис Федорович, — его надо немедля выслать из Москвы.
Голова Бельского печально опустилась, он с укоризной посмотрел на своего друга. Тот поймал этот взгляд и отвернулся.
— На том и порешим? — сказали бояре и вопросительно уставились на царя.
— Да… да… так ладно, — устало сказал он.
Юрьев и Мстиславский с дьяками опять отправились к народу сообщить царскую волю.
Народ согласился не сразу, но Щелкаловы умели красно говорить, и в конце концов мятежники мирно разошлись.
— Как это ладно вышло, — шепнул на ухо Василию Шуйскому, весело улыбавшемуся и потиравшему руки, Борис Федорович, — что Бельский из Москвы отъедет: больно власть он хотел забрать. Рад, рад я очень.
Лицо Василия Ивановича вытянулось. Он был озадачен: не то ожидал он услышать от Годунова.
От Фроловских ворот Марк Данилович возвращался вместе со своим неожиданным помощником, вернее, спасителем.
— Ну, уж и спасибо же тебе! Не вступись ты, верно, не пришлось бы мне теперь шагать к дому.
— Э! Пустое! Ты сам лихо дрался.
— Как ни лихо, а сложить бы мне голову. Спасибо… Как тебя по имени, по отчеству?
— Тихоном Степанычем кликают… А прозвище нашего рода чудное.
— Какое ж?
— Топорок.
— Гмм… Да. И откуда такое прозвище взяться могло?
— А, вишь, прадед мой был чудак большой руки: он завсегда в битву ходил не с саблей булатною, а попросту с топориком махоньким и умел им ловко работать, так что, бывало, татарва либо ляхи, как завидят старичка с топориком, так и порснут от него в разные стороны. Вот с той поры и пошла кличка «Топорок».
— Ты, Тихон Степанович, далече живешь?
— Нет, сейчас вот, через улицу.
— Э! Так нам совсем по пути. Ведь и я тут же живу.
— Свой домок?
— Нет, у дяди. Я в Москву недавно приехал.
— Издалека?
— Из-за моря.
— А! Так, стало быть, ты — племянник Степана Степановича Кречет-Буйтурова?
— Да. Почему ты узнал?
— О тебе по Москве слух идет. Тебя называют выходцем заморским. Ну, а, кроме того, отец мой с твоим дядей в приятелях. Тебя, кажись, Марком звать?
— Марком Даниловичем. Вот что, Тихон Степанович, не обессудь зайти ко мне перекусить, чего Бог послал.
— Я бы рад, да…
— Что же?
— Да, вишь, хоть отец мой и дружит со Степаном Степановичем, а я с твоим дядей не в ладах: сдается мне все, что недобрый он старик. Ну, и раз я с ним здорово повздорил.
— Так что ж? Ко мне придешь, не к нему. Я не из его рук смотрю.
— А и то! Чего на него глядеть. Пойдем, пожалуй.
— Вот и ладно.
Рассказывая о своем прибытии в Москву, Марк упомянул случайно имя Турбинина.
— Ты его знаешь? Ведь это — приятель мой! — вскричал Топорок.
— А! Тем лучше, — ответил Кречет-Буйтуров, потом налил два кубка вина и сказал: — Выпьем с тобой на вечное дружество. Не прочь?
— Отчего же прочь? Рад буду, — ответил Тихон Степанович, принимая кубок из рук хозяина.
Они выпили и расцеловались.
XX. Боярышня Татьяна Васильевна
Серый день. Природа хмурится, как сварливая старуха. Не похоже, что на дворе стоит половина апреля. Весна смотрит осенью. А между тем утро было ясное, солнечное. И вдруг невесть откуда наплыли тучи. Хмурится погода, хмуро и на душе у боярышни Татьяны Васильевны. Она смотрит в ту сторону, где легкий свет сквозит сквозь толпу туч — там спряталось солнце.
Задумчиво худенькое личико Тани. Глаза смотрят печально. Как будто даже слеза блестит в них. О чем думает бедная девушка? О чем, как не о своей грустной доле, о никогда не испытанном счастье. Счастье! В чем оно? Разве для нее, для падчерицы боярыни Василисы Фоминишны, возможно счастье? Ей вспоминается вся ее короткая жизнь, серая жизнь! Нелюбимая отцом, лишенная ласк матери, умершей в то время, когда Тане было всего два года, она росла одинокой дикаркой. Людей она чуждалась и боялась. Да как было и не бояться, и не чуждаться, когда она ничего не слышала от них, кроме брани, ничего не получала, кроме тычков да побоев. Ее ум начал рано работать, и мечты ей заменяли подруг. Ее душа была полна каким-то томлением, какие-то струны дрожали в ней, и восход, и закат солнца, и мерцание звезд, и шум бури, и сияние полной луны — все заставляло звучать эти струны.
Она жила в особом мирке. Окружающая природа не казалась ей мертвой. Солнце, луна, звезды — все это были живые существа, ее друзья. Часто первый луч солнца заставал ее стоящею у окна. Она улыбалась, кивала головкой, протягивала свои худенькие детские ручки навстречу восходящему светилу. Часто, лежа в постели в ненастную осеннюю ночь, она прислушивалась к завываниям ветра, и чудилось ей, что это не ветер ревет — это стонут тысячи блуждающих грешных дута. Суеверный ужас закрадывался в ее маленькое сердечко, и губы шептали: «Боженька! Прости их!»
По мере того, как она вырастала, «дружба с природой» становилась все менее тесной. Настала пора, когда эта «дружба» совсем прекратилась. То, что раньше казалось живым, стало мертвым. Девушка-подросток почувствовала пустоту. Осталась потребность любить, но былые друзья изменили, а где найти новых. И боярышня в страстных поисках «друга» — существа, на которое она могла бы перенести свою любовь, — попыталась сблизиться с людьми. В это время как раз женился вторично ее отец. Тане казалось, что молодая красавица мачеха должна стать ее другом, но первая же попытка в этом направлении кончилась неудачей: Василиса Фоминична отнеслась к ней холодно. Не установились между падчерицей и мачехой дружеские отношения и впоследствии: боярыня питала какую-то слепую ненависть к своей названой дочери. Таня отшатнулась от нее.
— Прости! Прости!
И отец прощал, прощал против своей воли.
— Тьфу! Пристала как банный лист, окаянная! Ну, отпустите его к черту! — говаривал отец и тут же добавлял: — а ты, Танька, смотри: вздумаешь еще раз соваться с носом, куда не след — изобью нещадно.
Но на следующий раз повторялось то же самое.
Дворовые звали Татьяну Васильевну не иначе, как ангелом.
Принесла ли боярышне счастье эта дружба, более того — благоговейная любовь многих людей? Нет. Она на время только заполнила пустоту, но не дала полного счастья.
Иного просило сердце. Чего же? Любви, но иной, чем та, которую питали к ней холопы. Какая это «иная любовь», Таня сама не могла определить.
Почему ее все чаще и чаще стали посещать неясные образы? Ей чудился «кто-то». Этот «кто-то» был тот, который мог дать иную любовь. Ей грезилось прекрасное, молодое лицо, с задумчивым взором. Манил этот взор Таню, проникал в душу. И она не противилась безмолвному зову, она отдавалась влечению. Какое-то духовное сродство было в их душах — это чувствовала боярышня. Он был ей родной — родной не по плоти, по духу.
Отлетала греза — и Таня оставалась в прежней печальной действительности. И сердце ее тоскливо ныло, как будто бы она только что рассталась навеки с дорогим другом.
За Татьяну Васильевну сватались женихи: Василиса Фоминична заботилась по смерти мужа поскорее отделаться от ненавистной падчерицы. Для этой цели она даже увеличила сумму приданого боярышни, одаривала свах. Сперва в женихах не было отбоя, прошел год — число их сильно поредело, а скоро женихи совсем стали объезжать усадьбу боярыни Доброй. Татьяне Васильевне грозила опасность остаться в «вековушах». Василиса Фоминична выходила из себя и злобилась на падчерицу. В чем крылась тайна? Если боярышня не могла назваться красавицей, то все же была