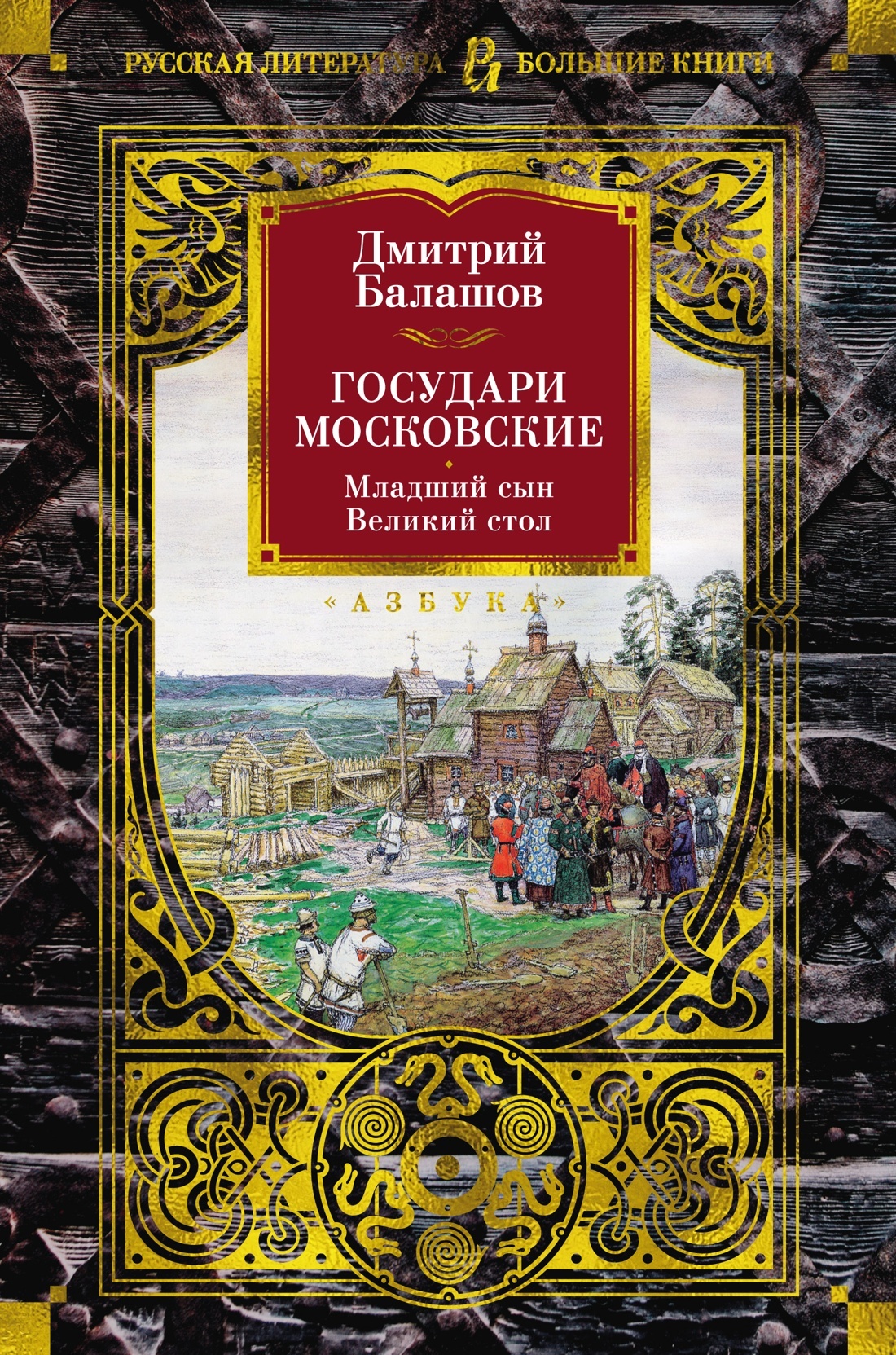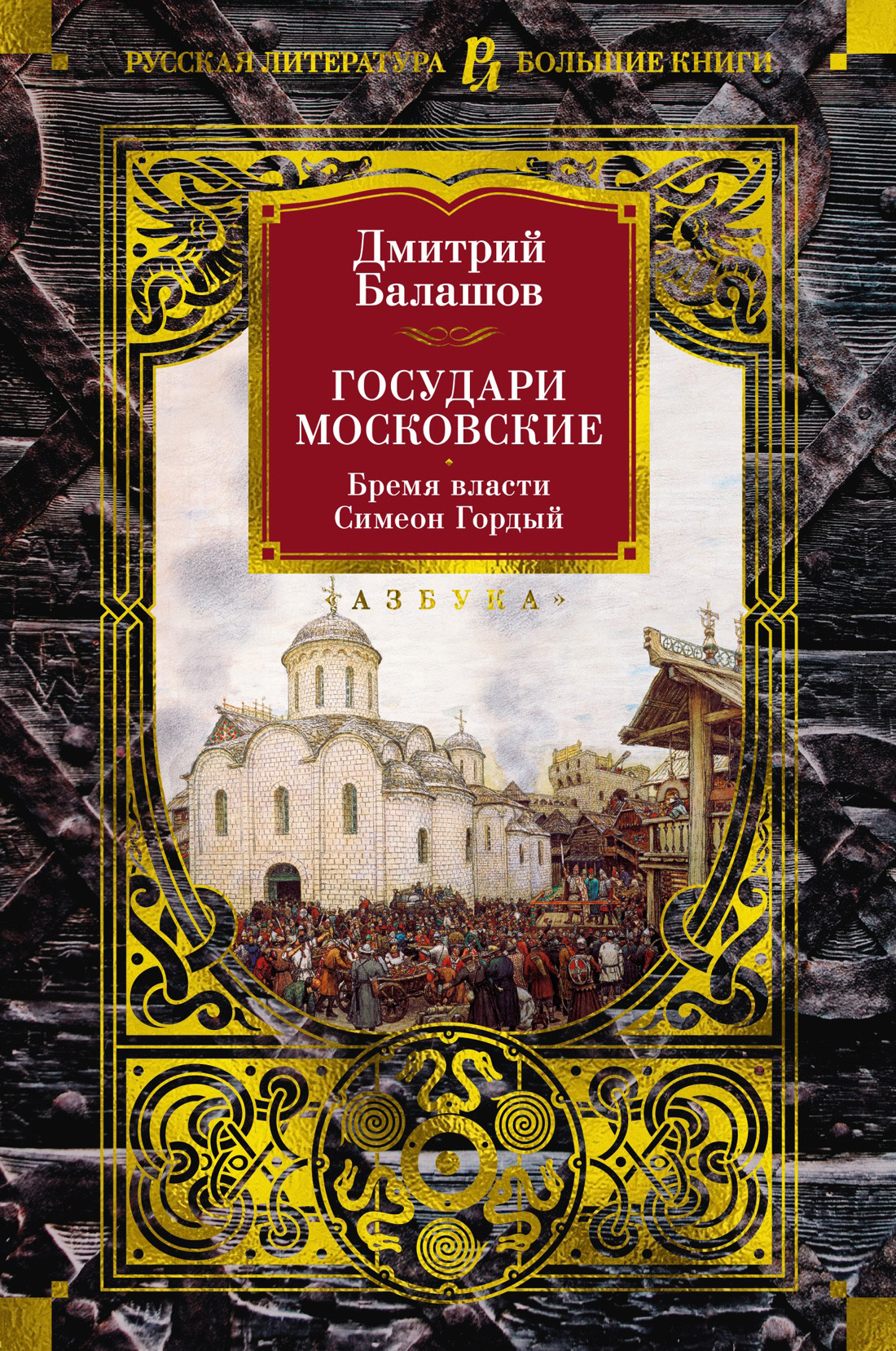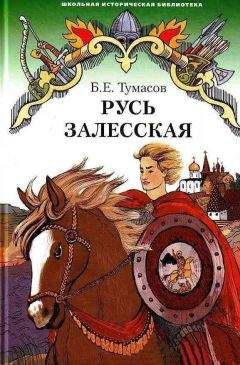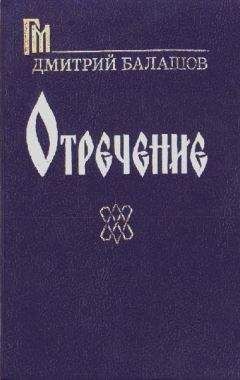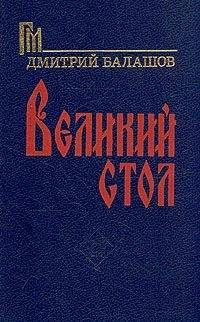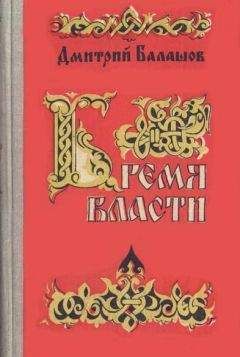и заушали старца, пихая его в шею вон из шатра. Видел, как, согнувшись, держа под полою ларец с грамотами, убегал Онисим, а Викула Гюрятич, закрывая его телом, свирепо и страшно отбивался от наседавших татар. Видел, как старый Онтипа Лукинич волочился по земи, уцепившись за полу какого-то дюжего ордынца, и тот, пиная сапогами, все не мог скинуть с себя старика. Бояре и слуги все вели себя так, как умели и как могли. Не в состоянии спасти господина, они спасали то из добра, что считали ценнейшим и важнейшим.
Не в силах смотреть на позор и поношение своих бояр, прикрывая глаза от стыда и боли, Михаил все же в душе гордился и сейчас своими соратниками, не посрамившими чести ни своей, ни княжеской.
И после того, как последние слуги Михаила были изгнаны из вежи, началась безобразная свалка: делили, вырывая друг у друга из рук, порты, рухлядь, оружие и одежды Михаила.
– Удалиша от мене дружину мою и знаемых моих от страсти! – прошептал Михаил, старинным стихом благодаря небо за то, что никто, хотя бы здесь, при его глазах, не был убит или всерьез изувечен.
Потом явился кто-то из князей, ругаясь по-татарски, заставил навести некоторый порядок в веже. Многочисленные цепи с ног Михаила тоже сняли, но оставили его связанным и под охраною на всю ночь. Михаил дремал, лежа на боку, прислушивался к шорохам за стеною вежи. Хотелось пить, но он не мог заставить себя попросить воды у своих мучителей… Перед утром он, однако, забылся, и тут же его грубо растолкали. Явился палач, два дюжих татарина принесли тяжелую разъемную колоду, которую тут же и надели на шею Михаила. Толстое дерево поддернуло подбородок, тяжесть легла на плечи, сдавив уши, и сперва показалось Михаилу, что выдержать это не можно и часу. «Слава тебе, Господи, – проговорил он хриплым шепотом, мысленно уже распростившись с жизнью, – сподобил мя еси, Владыко, человеколюбче, начаток прияти мучения моего! Сподоби мя и скончати подвиг сей!» Однако шли часы, и он не умирал. Понял, что не надо напрягать шею, – стало немного легче. Ему поднесли воды. Испив и открыв глаза, князь увидел одного из своих слуг. У него невольно навернулись слезы: не чаял уже и видеть никого из тверичей! Оглянувшись, князь узнал и ближних бояр, и прислужников княжьих. Все они теперь были снова допущены к нему. Увидел и сына и поспешил отвести взор – так непереносно жалок был взгляд Константина.
Было трудно есть. Князя кормили слуги, как маленького. Сам он не мог дотянуться руками до рта. Мучительно было не спать. На ночь ему забивали в ту же колоду и руки, и князь мог лишь сидеть, но ни лечь путем, ни положить голову было невозможно. Михаил дремал, привалясь к стене. Отроки, сменяясь, держали под его головой кожаную подушку. Помогало это мало, и недостаток сна поначалу доводил его до исступления, хотелось, чтобы это скорее кончилось, как – все равно. Хотелось хоть перед смертью снять колоду с шеи – пусть казнят, пусть отрубят голову. Но в последний час, хоть на плахе, почувствовать свободной выю свою!
Помогала молитва. Строгий в исполнении обрядов, князь ныне ужесточил для себя служебный устав. Еженощно пел псалмы Давидовы, и – поскольку руки его были забиты в колоду – один из отроков, сидя перед князем, переворачивал страницы Псалтыри; почасту причащался и исповедовался, дабы умереть с чистою душою, как подобает христианину. Сейчас, напрягая все силы души, Михаил заставлял себя быть не только спокойным, но и радостным с виду. Ни один из отроков, обслуживавших князя в его жалком образе, ни разу не видел Михаила унылым или гневным. И это тоже помогало ему выдерживать муку. Духовно ободряя бояр и слуг своих, князь черпал в сем силы для одоления непослушливой плоти.
– Помните наши пиры, и песни, и утехи? – говорил он боярам, собиравшимся вокруг своего опозоренного господина. – А ныне, – он слегка поводил онемелою шеей, – видите вы это древо и скорбите душою! В жизни столько было хорошего, столько благ послал мне Господь, так сей ли не претерпети беды! Что мне эта мука противу дел моих! И больше достоит прияти, да бых за гробом прощение получил… Не плачьте, не надо! Яко угодно Господу, тако пусть будет! Буди имя Господне благословенно отныне и до века, и не печалуйте о муке моей!
Все это длилось уже более трех недель. Орда медленно передвигалась, и князя везли в арбе вслед за ханом. Узбек, по-видимому, еще не решил, казнить ли ему Михаила или наказать инако. Возможно, просто медлил вперекор дружному напору вельмож. Возможно, болезненно самолюбивый и постоянно неуверенный в себе, он – когда решение о казни уже получило силу приговора – вновь заколебался, отлагая исполнение ее на неопределенный срок. Во всяком случае, Узбек не захотел оставить Михаила в стане (видимо, чуя, что в его отсутствие князя могут прикончить уже и без ханского разрешения) и, отправляясь на ловы в предгорья Кавказа, повелел вести Михаила за собой.
Лучшей поры для побега было трудно придумать. Ясы, соболезнующие русскому князю, сами вызвались помочь, достали коней и проводников: в горах они были хозяевами, и никакая татарская погоня не настигла бы князя за Тереком, особенно теперь, в начале зимы. Через Кафу и западные земли князя брались доставить на Русь армянские и греческие купцы. Царица Бялынь, рискуя головой, передала наказ своим единоверцам в Крыму. Кирилла Силыч, уже заранее торжествуя, явился к Михаилу вместе с Викулой Гюрятичем поздно ночью, в отсутствие татарской сторожи, и передал, что все готово для бегства:
– Кони и проводники ждут! Из утра, как повезут, арба князя уклонится в горы…
Михаил, вздрогнув, строго оглядел своих бояр. (На миг, только на миг один, так захотелось ему даже и не бежать, нет, но снять поганую колоду с плеч, освободить голову, сесть на коня, вдохнуть свободным горлом ветра и солнца! Сам испугался своего желания.)
– Не дай же мне Бог сего сотворити! – сурово отмолвил он. – Ежели я один уклонюсь, а людей своих оставлю в этой беде, то какую похвалу приобрету себе? И о княжестве нашем, о земле, подумали вы? Голова эта теперь – жертва за други своя и за всех людей русских. Идите! И не смейте содеять ничего такового. А погибну я или нет – на то все воля Господня да будет!
Орда выходила уже к многолюдным селениям нижнего Терека. Вновь разбивали стан, развертывались палатки торга, ставили походную