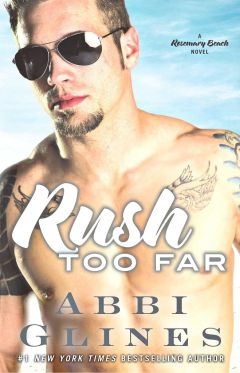— А не пошли бы вы все к такой-то матери! — сказал им Пейн.
Его спросили, что это значит, и он отвечал, это значит, что кто-то оставался в городе, а кто-то — удирал.
— Без Конгресса революции не существует, — парировали они.
— Без Конгресса? — взревел Пейн. — Боже ты мой — и что же сделал, скажите, этот самый Конгресс? Такому городу дайте тысячу человек оборонять дома и возводить баррикады на улицах, и он вам будет держаться вечно — вечно, вам говорят, и всей Британской империи не хватит сил пробиться через него. Но Конгресс сбежал, и город потерял голову, так что не вы, было бы вам известно, а Вашингтон, — не вы, а несколько сотен голодных оборванцев спасли дело революции! А не вы!
Он говорил спьяну, но ему не забыли этих слов. И решили между собой, что можно отлично обойтись без Пейна, что от Пейна больше неприятностей, чем пользы. Припомнили, как он одевается — нищий бы постыдился ходить в таких обносках; припомнили его свалявшийся, старый парик и то, что он шатается по улицам с мушкетом.
Армии, скованные зимней стужей, бездействовали, и Пейн нашел себе комнату, где мог писать. Очередной кризис миновал, и дьявол подхлестывал, торопил его перо; ему больше не было надобности подыскивать слова — теперь они приходили к нему сами и за каждым словом стояло горестное воспоминанье. «Никогда люди не старились так быстро, — писал он. — Мы в рамки нескольких месяцев втиснули дело целого столетья…» Он выпрямлялся и думал об этих месяцах, и хоть писалось ему легко, но все же то, чего он добивался, не получалось; хотелось дать обоснованье, структуру, поступательное движенье революции; он добивался целого, а получалась только часть. Когда сквозь мрак расплывчатым виденьем проступала картина переделанного мира, ощущение своей неумелости, своего бессилия сводило его с ума. Тогда он пил, и праведные души могли с полным правом указывать на него перстом.
Трудно было найти в ту зиму такого священника в Филадельфии, чтоб не метал в Тома Пейна громы и молнии в своих проповедях. Один старался особенно:
— Обратите свои взоры на нераскаянного нечестивца! Какому делу может с пользою послужить пьяница и сквернослов? Это ль пророк свободы, сей глумливец, что рыщет, как нечистый дух, по нашим улицам, оплевывая все то, что свято для человечества?
Тем немногим, кто не отступился от него, Пейн говорил:
— Нет, это не война, не революция, если те, кто нас ненавидит, благополучно едят три раза в день, спят на перинах — и кому какое дело, что где-то там, в снегу, стоит армия?
Белл согласился напечатать второй «Кризис» с тем условием, что Пейн достанет бумагу. Пейн, у которого не было ни гроша в кармане, уставился на Белла, онемев от возмущенья.
— Ну-ну, давайте разберемся спокойно, — говорил Белл, разводя руками. — Бумага больше не поступает, а много ли заработаешь, выворачиваясь наизнанку, чтоб напечатать какую-то дребедень?
— А «Здравый смысл» — это тоже дребедень? Я с вас не требовал отчета, но все же разбогатели вы на нем или разорились? Сколько сот тысяч продали?
— Это вы повторяете чьи-то сказки.
— В самом деле?
— Сейчас тяжелые времена.
— Еще какие тяжелые, только вам-то откуда это знать? — Пейн усмехнулся. — Вы себе вон как славно мошну набили на моей книжке. Смотрите, Белл, когда сидишь между двух стульев, то и убиться недолго.
— Вы что, угрожаете мне?
— Нет-нет, это я так, к слову. Забудьте. Мне главное, был бы хороший станок, а кто шурует у станка, какая разница, хоть сам черт. Значит, если найду бумагу, напечатаете?
— Сделаем.
На том и порешили; Пейн отправился на поиски бумаги. Робердо отсутствовал в городе, Джефферсон — тоже, Франклин находился во Франции, а его зять принадлежал к числу тех, кто глубоко презирал Пейна. У Эйткена бумаги не набралось бы и на десяток экземпляров. Пейн, усталый, со вчерашнего дня без маковой росинки во рту, мотался по городу, пытаясь продать право на свой гонорар, в какой бы сумме он ни выразился, за несколько тысяч листов бумаги. Джона Камдена и Ленарда Фриза — торговцев, которые скупили приличное количество газетной бумаги с расчетом сбыть потом дороже — предупредили, что от автора «Кризиса» следует держаться подальше. К ним оказалось невозможно пробиться; Пейн бушевал, грозил, умолял, но тощий приказчик упорно твердил одно и то же:
— Сожалею, но бумаги в продаже нет.
Продавалась, впрочем, отличная писчая бумага, сто тысяч листов, но владелец требовал плату наличными, и притом — в английской валюте. Напрасно Пейн настаивал:
— Слушайте, вы не смотрите, что я так выгляжу! Люди забыли «Здравый смысл», и я теперь никчемный забулдыга, грязный оборванец, пьяница — мне все это известно, но подите спросите, был ли случай, чтоб я не вернул долг? Спросите! Кому в Филадельфии Том Пейн задолжал хотя бы грош? Разузнайте!
Он снова отыскал Эйткена.
— Сходите к еврею Саймону Гонзолесу, — сказал Эйткен.
Большой, черноволосый, с курчавой бородой по пояс, одетый в бархатный лапсердак и ермолку, Гонзолес с любопытством взглянул на иноверца, от которого уже издали несло спиртным. Поводя вислым носом, кивнул, услышав имя Пейна — да, пусть войдет. В большой полутемной комнате девушка, кругленькая и мягкая, как персик, смотрела на Пейна во все глаза, полуиспуганно, полуизумленно.
— Я мало понимаю в бумаге, — сказал Гонзолес. — Мехами — да, занимался, и что вы сделали с меховой торговлей, ваши революции, ваши беспорядки?
Пейн покачал головой и ничего не ответил, молча молил усталыми глазами.
— Для приверженцев Пятикнижья, — сказал Гонзолес, — мы, евреи, знаем удивительно мало о том, на чем запечатлено слово Божье. Допустим, что я имею желание вам помочь, так куда мне идти?
— Можно купить — на английское золото, — умоляюще сказал Пейн. — За двести гиней — сто тысяч листов, с водяными знаками, то есть высшего качества бумага — не та, что идет на газеты или книги, а писчая, понимаете, для иных целей, но поверьте, то, что я написал, необходимо обнародовать. А больше ничего не продается.
— Знаю я, что вы пишете, — сказал еврей не без укора; Пейн впился в него глазами, когда он, подойдя к окованному железом ящику, стал отсчитывать деньги.
— Я выгляжу нищим, — сказал Пейн. — От меня разит, как из бочки, — но я плачу долги.
— Это не долг.
— Клянусь…
— Не надо никаких клятв!
На несколько мгновений Пейн застыл, чуть дрожа от напряжения; потом принял деньги и пошел, еле сдерживаясь, чтобы не припуститься бегом, сжимая золото обеими руками; по дороге нанял тачку, чтобы отвезти бумагу к Беллу.
Всю ночь он проработал, помогая Беллу, и весь следующий день — с руками, непросыхающими от краски, вдыхая воздух, насыщенный милым сердцу острым запахом.
Вернулся Робердо; столкнулся с ним на углу, поглядел дикими глазами, точно на привиденье, схватил за руку и резко окликнул:
— Пейн?
— Что?
Робердо увидел, что он не пьян.
— Пойдемте-ка зайдем ко мне, — сказал он.
— Хорошо…
Он повел Пейна к себе домой, то и дело умеряя шаг, чтобы фигура, ковыляющая рядом, не отставала. Племянница Робердо оказалась дома, и Пейн угловато переступил порог, стянул шляпу.
— Ирен, господин Пейн остается к обеду, — объявил Робердо.
Пейн молча кивнул, улыбнулся — молчал за обедом, не в силах вставить в разговор хотя бы слово, ел медленно, сдерживая себя, — ел, и не мог остановиться, изредка виновато улыбаясь. Робердо спросил напрямик:
— Том, когда вы ели последний раз?
— Два дня назад, по-моему, — или три.
Девушка отвернулась; Робердо, глядя к себе в тарелку, сказал жестко:
— Мир переделывать — на это вы горазды, жить по-человечески — нет. Черт возьми, Пейн, с ума вы сошли, что ли?
В ответ — ни слова, Пейн только передернул плечами.
— Чем вы намерены теперь заняться?
— Не знаю. Пока готовлю новый «Кризис» — он сейчас нужен.
— «Кризис» готовите… Пейн, неужели вам не ясно, что жизнь продолжается даже в военное время, что никому нет пользы — ни вам, ни Вашингтону, ни нашему делу, — оттого что вы бродите по Филадельфии, как уличный нищий, пропойца…
— Замолчите!
— Нет, я скажу, — потому что вы большего стоите, чем грязный, пропащий забулдыга. Я слушал вас под Эмбоем — теперь извольте выслушать меня.
— Я ухожу, — сказал Пейн, вставая.
— Черта с два вы уходите. Ирен, выйди отсюда!
Девушка вышла, но задержалась на минутку в дверях и бросила на Пейна взгляд, полный такого теплого участия, такой доброты — а рука Робердо так тяжело легла ему на плечо, что Пейн опять опустился на стул. Робердо сел напротив, взял понюшку табаку, протянул табакерку Пейну, потом налил в стаканы коньяку. Выпили; посидели молча минут пять.
— Валяйте, выкладывайте, — кивнул Пейн, и Робердо в эту минуту подумалось о том, как этот человек сумел впитать в себя весь дух и своеобычие Америки, вплоть до манеры говорить. В обросшем щетиной горбоносом лице, в простоволосой голове без парика было нечто неистовое и великолепное, некая изнуряющая свирепость — само, изваянное природой, олицетворенье революции, в котором мятежная жестокость неразделимо вплелась в глубокие бороздки боли и состраданья.