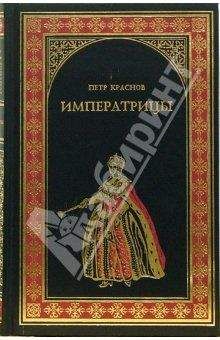«Дело, значит, надо сделать аккуратно».
Миних не лег спать. Все у него было хорошо продумано, но вдруг заколебался. Войска ему не изменят, войска его послушают, но может передумать, испугаться и изменить в последнюю минуту сама принцесса Анна. Она мать и, как мать, может все сделать для спасения своего ребенка. Миних вызвал к себе своих адъютантов Манштейна и Кенигсфельда и приказал подать сани и карету. В сани посадил Манштейна, сам с Кенигсфельдом сел в карету и поехал в Зимний дворец.
У дворца он сказал адъютантам:
— Мне надо поговорить с сыном–гофмаршалом. Оставайтесь у дверей и ждите меня.
В карауле была рота Преображенского полка капитана Ранцева.
Караульный начальник остановил его.
— Ваше сиятельство, — сказал он, салютуя эспантоном, — имею приказ вашего сиятельства никого не пропускать на половину, где помещается его величество и герцогиня Брауншвейгская.
— Я освобождаю тебя от данного мной приказа, — твердо сказал Миних. — Возьми с собой своих офицеров и следуй за мной.
Они прошли к спальне герцогини. Спавшая у дверей дежурная камер–фрейлина в испуге кинулась к ним.
— Судари, — закричала она, — что вы делаете?.. Ее высочество уже давно почивают.
— Одна?.. — спросил Миних.
— С младенцем–императором.
— Разбуди ее высочество и скажи, что фельдмаршал Миних просит выйти по неотложному делу.
Но уже шум у дверей спальни разбудил Анну Леопольдовну, и она вышла в темном шлафроке и белом большом платке со свечой в медном подсвечнике в руках.
— Ваше высочество, — решительно и твердо сказал Миних. — Я иду исполнить ваше приказание арестовать герцога Курляндского, но мне надо, чтобы вы, в присутствии караульных офицеров, подтвердили его.
— Господин фельдмаршал, — взволнованно, глубоким, дрожащим голосом сказала Анна Леопольдовна, — господа офицеры!.. Мой желаний есть, чтобы ви арестовал герцог… Он не дает нам жить… Сие терпеть дольше нельзя.
Офицеры молча поклонились. Герцогиня подошла к Миниху и поцеловала его в лоб, потом подбежала к Ранцеву, обвила горячими руками его шею и крепко поцеловала в щеку, после перецеловала обоих бывших с ним офицеров.
— Ступайть, — сказала она. Слезы блистали на ее глазах. — Бог помогайт вам!
— Камрады, — сказал Миних. — Идемте и исполним наш долг перед Родиной и государем.
Офицеры повернулись по–уставному и пошли за Минихом.
Морозная ночь лежала над Петербургом. Снеговой покров лег на улицы ровной, не наезженной пеленой. Снег продолжал сыпать крупными хлопьями. На гауптвахте тускло горели желтыми пятнами фонари. Снежинки в их свете играли перламутром.
XI
Цесаревна проснулась в своей спальне в Гостилицах в восьмом часу утра и, накинув шлафрок, подбежала к окну и отдернула занавеску. Она не ошиблась. Недаром она так крепко, не просыпаясь, проспала всю ночь. Все было бело кругом от нападавшего глубокого, рыхлого еще снега. Горностаевым мехом оделась земля, в чеканные серебряные ризы обрядились леса. Над белыми холмами, из–за Глядинской мызы желтым кругом в оранжевое небо поднималось солнце и слепило глаза цесаревне. От окна дуло хорошим морозом, и сквозь стекла было слышно, как на дворе скрипели шаги по снегу. У кухонного подъезда стояли сани, запряженные лошадью. Шерсть была у лошади в мокрых кольцах и завитках и дымилась на воздухе. Кругом, сколько глаз хватал, были в зимней оправе леса. Такая тихая радость была в Божьем мире, что цесаревна всем существом своим ощутила ее, и весело забилось ее сердце.
Она разбудила заспавшуюся горничную и послала ее за камердинером Чулковым.
— Ступай, — сказала она ему, — буди Алексея Григорьевича, пусть убирается в верховой костюм. Сейчас же седлайте мне Драмета… Какая погода! Мы поедем кататься… Какой снег–то напал!.. Нежный, пушистый, — самая пора ныне скакать!..
В том же радостном возбуждении цесаревна вышла в маленькую залу подле спальной. Новая радость ее ожидала. Из петергофских оранжерей ночью, санями, в корзинах, укутанных в войлок и солдатское сукно, ей привезли первые гиацинты и тюльпаны. Зала, где было свежо и где истопник только растапливал голландскую, в белом с голубыми рисунками кафеле печь, была напоена свежим, нежным, сладким запахом гиацинтов. Розоватые новые рогожи были постланы на блестящий паркет, и на них стояли большие, из дранки сплетенные овальные корзины, полные маленьких горшков с цветами. Садовник и два камер–лакея расставляли их в золотых вазонах.
— Экие вы, братцы, — воскликнула цесаревна, — ну, куда вы пихаете лиловые?.. Розовые ширмы и лиловые гиацинты!.. Сюда тащите тюльпаны. Великолепные, отменные у вас вышли в этом году тюльпаны, лучше, чем у меня в Перове. И стебли когда успели такие длинные дать!
Она отошла от ширм и, прищурив голубые, прекрасные глаза, смотрела издали на готовую вазу с цветами.
— В самый раз потрафили, — сказала она, поворачиваясь к садовнику. — Больше здесь не надо. Остальное тащите в столовую. Здесь только — розовое, белое и чуть–чуть красных поставить, туда, в тень, в самый угол.
Сама красота несказанная — цесаревна и вокруг себя любила все красивое.
Она сказала по–немецки садовнику:
— Ладно?
— Так точно, ваше высочество, — улыбаясь, ответил немец и стал по–немецки рассказывать, как им удалось вывести столь ранние цветы.
— Очень хороши в этом году голландские луковицы, что летом пришли на корабле Якова Геррица из Амстердама. Вы посмотрите, какие густые эти белые… Низковаты немного, зато какие пышные и какие ароматные.
Цесаревна подошла к золотой вазе, наполненной цветами, и опустила в них свое свежее, румяное лицо.
— Да, — с тихим вздохом сказала она, — удивительны. Аромат… Свежесть… Не надышишься…
В дверь осторожно постучали.
— Входи, Алексей Григорьевич.
В белом камзоле, высоких сапогах Разумовский казался еще выше ростом, красивее и статнее. Цесаревна, не отрываясь от цветов, протянула ему маленькую руку. Тот поцеловал ее и остановился, не зная, что сказать. Восторг и обожание горели в его глазах. Так хороша была его царевна сказки в этом царстве диковинных цветов. Она поняла его мысли и счастливо улыбнулась.
— Ну что?.. Как почивал?..
— Ваше высочество… Как вы?.. Как вы изволили почивать?..
— Так спала… Так спала… И сны какие–то снились, а какие, не запомнила… Что скажешь?.. Зачем пожаловал?..
— Какой кафтан повелишь надевать на прогулку?
Она прищурила глаза и рассматривала его, как бы соображая, во что и как ей обрядить своего любезного. Веселые искры загорелись в глазах, ямочки заиграли на полных щеках.
«Нет… хорош, хорош мой Адонис… В тридцать лет какой стан! Во что мне обрядить его?.. А?.. Придумала».
Она погасила загоревшийся в ней огонь. Кругом были люди, и хотя, конечно, те люди все знали, — она соблюдала придворный этикет.
— Холодно, друг мой неизменный, а я хочу много и долго кататься. Надевай белый полушубок и шапку казацкую белой волны… А я надену белую амазонку, кафтан на горностае и горностаевую шапку. Лошади будут серые, снег кругом белый… Вот–то ладно будет. А с собою возьмем черных моих арапов и на вороных лошадях и с ними Нарцисса и Филлиду…
— Обе черные, в стать и в лад им, — подхватил Разумовский, которого заражало веселье и радость цесаревны.
— Итак, поторопись…
— Зараз и обряжаюсь.
Цесаревна сделала менуэтный поклон и побежала легкой побежкой, точно горная лань, к себе в опочивальню.
Рослые, широкие, с львиною грудью и толстыми крупами, с маленькими щучьими головками, ганноверские лошади в драгоценном уборе прыгали, еле сдерживаемые арапами в красных кафтанах. Большие меделянские собаки, такие же черные, как и арапы, метались в своре. В морозном воздухе звонок был их веселый лай.
Едва коснувшись маленькой ножкой руки арапа, цесаревна легко вспрыгнула в седло. Арап оправил на ней широкую, тяжелую и длинную амазонку, закрывшую лошадь до самого хвоста. В маленькой белой шапочке с соколиным пером на золотых кудрях, в туго в талии стянутом кунтуше цесаревна, прекрасно сидевшая на лошади, и точно, казалась не земной, не действительной, но точно из мира сказок прибывшей сюда, в белые снега, к белым, высоким, в серебряном инее березам широкой аллеи, людским вымыслом созданной, прекрасной царь–девицей.
Они поскакали галопом по дороге, шедшей по косогору. Так, согреваясь скачкой, дыша полной грудью морозным воздухом, проскакали они версты две и въехали в густой, запорошенный снегом, заиндевелый лес. Дорога обозначалась лишь узким санным следом. Крестьянские обозы еще не прошли по ней и, не накатали ее. По рыхлому, глубокому снегу лошади шли воздушно и легко, высоко поднимая ноги. Их перевели на шаг и ехали молча, отдав повода задымившим лошадям. К нежному запаху снега стал примешиваться терпкий запах конского пота. Угомонившиеся псы бежали рядом, раскрыв пасти и выпустив красные языки. Они поглядывали умными блестящими глазами на цесаревну.