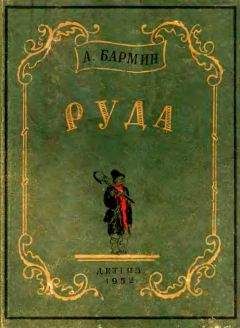Егор размышлял о том, что началась у него «куриная слепота». С голодухи, конечно. Как солнце зайдет, ничего уж и не видно. Вечера теперь светлые, до полночи бело, хоть читай. А у кого куриная слепота, тот и в яму свалится и на дерево лбом найдет. Оно бы, кажется, ничего. Пораньше вставать на ночевку, пораньше, с солнцем, выходить в путь. Но стало страшно: вдруг, не разобравшись, разведет огонек близ дороги. Его будут ловить, будут его издали видеть, а он, слепой, станет тыкаться в кусты и падать на каждом шагу. Даже знать не будет, с какой стороны преследуют, сам на погоню набежит. Ух ты, страх!
И бочком пролезла в голову мысль, сомнение одно. Не бросить поиск, нет, — на этот счет Егор закостенел, не позволил бы себе заколебаться. А только не прервать ли его на время? Вернуться тайно домой, к Маремьяне, отъесться, куриную слепоту вылечить, — есть для того верное средство — коровья печенка, — как рукой снимет! — запас сухарей взять, да побольше, и опять сюда… Опять, значит, через демидовские заставы проходить, да еще дважды. А времени полмесяца зря уйдет. Не дело! Егор недолго эту мысль в голове держал, встал и пошел. Но был уже отравленный, слабость почувствовал. Мозоли на ногах заболели, лопата стала тяжелой, двухпудовой. Нос всё ловил дух горячей, дымящейся вареной печенки: так захотелось говядины — челюсти сводит. Егор злился на себя: как пустил в голову дурную мысль об отдыхе? Наказывал себя ожесточенной работой. Сколько он в тот день закопушек сделал — не сосчитать!
Шел как раз вдоль узкого лесного ручья, — песку чистого много. Чтобы от голоду не мутило, держал во рту листочек кислицы. Ручей, думал Егор, выведет к болотине, надо будет молодых утят половить или утиных яиц хоть найти. Не беда, если и насиженные.
Ручей потерялся в каменной россыпи. Так Егор вышел к прогалинке, с которой спугнул глухаря.
Проснувшись на камне, Егор обругал себя: дни и так ему коротки стали, а он спать вздумал. Обулся, пожевал кислицы и потащился дальше.
Высокий сосновый лес оборвался разом. Начался склон, покрытый березняком. Между последними соснами возвышалась скала из округленных темно-серых камней. Егор взобрался на нее, чтобы поглядеть поверх берез вдаль. Склон спускался сначала круто, а потом полого и превращался в многоверстную долину. На ней виднелись и луговые места с зарослями больших кустов — должно быть, черемухи. Горы с хвойными лесами теснились далеко впереди.
Внизу, где кончался крутой спуск, блеснула в зелени берез вода. К ней Егор и направился. Под горку спускаться было легко. Чтобы не очень разбежаться, Егор хватался рукой за стволы, отталкивался и бежал углами. Пара зайцев оторопело выскочила из-под самых ног и заковыляла, в сторону. Егор погнался за ними, зайцы тогда повернули в гору и ускакали очень быстро.
Вода внизу оказалась узким ручьем с разливами, очень извилистым. В ручей склонились кусты длиннолистого тальника. Егор прежде всего попробовал, каков-то песок. Песок был мелкий, черноватый от ила. Разбирать такой пальцами неудобно. Егор придумал промывать его на лопате. Дело пошло быстрее, — жалко, лопата плоска, песчинки задерживаются только у выгиба, где насажен черенок. Остаток промытого песка Егор брал на ладонь и пальцем размазывал по ней. В песке, взятом с пятой или шестой лопаты, блеснуло желтенькое. Но Егор понял это только тогда, когда уже опрокинул ладонь над водой — до чего привык, что песок всегда пустой. Быстро повернул руку — к ладони прилипли три серых песчинки, остальное булькнуло в воду.
Призрак золота опять поманил Егора. Он пробовал песок ручья до тех пор, пока не посерело в глазах.
Встал, огляделся. Солнце садилось, туманная мгла наползала из-за кустов. Куриная слепота давала себя знать. Надо скорее искать место для ночлега. Голодным спать придется. Ну уж завтра полдня можно затратить, а только раздобыться уткой. Бывает ли у птиц печень?
Шел между кустами черемухи. Большие кусты, как избы. Приходилось в таких ночевать, — ничего, только сыро всегда. Нырнул в один — в середине листьев нет, стволы, десятки изогнутых стволов тянутся из одного центра, а густая листва шатром от самой земли. Тут сохранно спать. Наощупь поискал удобного места и не нашел: очень часто насажены стволы.
Вылез из куста, подошел к другому, руку протянул отвести ветку — и отдернул ее, как от змеи. Окно! Настоящая изба перед ним. Протер быстро глаза, попробовал рукой — бревна, мох набит меж бревнами, угол крошечного оконца с натянутым пузырем. Глаза это видят, рука подтверждает. Стал пятиться помаленьку. Изба превращалась в серое пятно, такое же, каких много вокруг. Ему почудилось, что стоит он среди деревни, — сейчас собаки залают, люди сбегутся.
Допятился до куста, у которого раньше был, почувствовал горький и гниловатый черемуховый запах. Втиснулся между шершавых стволов, сильно оцарапал щеку сухим сучком. И затих.
Василий Никитич Татищев в доме Миклашевского беседовал с хозяином, только что вернувшимся из-за границы. Оба стояли у окна. В руках главного командира фарфоровый подносик с темно-серым ноздреватым куском минерала.
— Так это и есть английский кок? — говорил Татищев, перекатывая по подносику легкий звенящий кусок.
— Знаменитое изобретение Абрама Дерби, — подтвердил Миклашевский. — Скоро по всем английским заводам перестанут в домны древесный уголь метать, — всё на коке.
— И железо не хуже выходит?
— Ну, всё-таки похуже. Однако в дело гож. Да коли пожгли англичане все свои леса, что ж им делать? Вот и исхищряются.
— Вы видали, Михаил Викентьевич, как этот кок из земляного угля пекут?
— Видал. Трудности ни малой нет. В кучах пережигают, как и дрова, только угару больше. Жалко, у нас на Урале каменного угля не найдено, а то бы попробовать можно.
— Нам сосны да ели на многие годы хватит. Обойдемся без кока.
Татищев решительно поставил подносик с куском кокса на подоконник.
— Еще что привезли из Лондона хорошего?
— От молодого Кантемира поклон вам привез, Василий Никитич.
— Как поживает князь Антиох Дмитриевич? Чай, ему некогда теперь сатиры писать?[28]
— Пишет. Только глаз не осушает Кантемир.
— Что так?
— Две тому причины. Первая — от давнишней оспы у него осталась болезнь, слезотечение. А вторая — горюет очень о смерти Феофана Прокоповича, друга его и покровителя. От первой причины ездил лечиться в Париж, а от второй никто его ни вылечить, ни утешить не может.
— И мне всегдашним советчиком был Прокопович, — угрюмо сказал Татищев. — Утрата большая… А что, этот барон Шемберг уже прибирает к рукам горные заводы?
Перенос речи от Прокоповича на барона был самый натуральный. Прокопович, Кантемир, как и сам Татищев, были ученики Петра Первого, выращенные им русские деятели. Их оставалось немного: царица Анна и, главное, любимец ее граф Бирон заменяли русских иноземцами. Кто еще? Артемий Волынский у дел, вот и все; остальные — вельможная мелкота, — числятся, но не правят. Теперь и во главе горного дела Бирон поставил саксонца Шемберга. Чин для Шемберга придуман новый: генерал-берг-директор. Татищев теперь должен ему подчиняться и лишен права писать прямо императрице. Глуп Шемберг и неучен, но, говорят, большой пройдоха.
— Шемберг, конечно, в силе, — пробормотал Миклашевский.
— Говорите прямо, что знаете. О моем «Заводском уставе» что слышно? Утвердят?
— Едва ли, Василий Никитич. Слушок есть: сам граф не одобряет.
Татищев криво усмехнулся:
— Еще бы. Того и ждал. Ведь я в «Уставе» саксонский манир отставил.
— Нет, тут хуже. Граф Бирон узнал, что вы изгоняете немецкие слова и звания из горного обихода и принял то в личную себе обиду.
— Не уступлю! — визгливо крикнул Татищев. — Русского языка я им не уступлю. То ли нам Петр Великий завещал?.. Говорят, при Петре немало голландских, французских, немецких слов в нашу речь вошло, — так. Но то было по нужде, за недосугом. Однако Петр и тогда об очищении языка думал. Сам о том заботился. Саксонцы и сотой доли заслуги в горном деле у нас не имеют, как то может показаться из-за обилия их слов. Зачем нам говорить «берггайер», когда можем сказать горщик или рудокопщик? «Флюс» — понятнее разве, чем плавень, а «хаспель» — чем вороток? Или мы о плавнях только от саксонцев и узнали?
Больное место Татищева было задето.
— Грамоту надо поскорей здешнему народу, вот что. Тогда никакие саксонцы не страшны, — говорил он горячо, расхаживая по кабинету и перекидывая из руки в руку схваченный с подносика кусок кокса. — Хотел бы я здешний, такой простой и упрямый народ в обычаях чтением книг переменить. С грамотным народом скоро слава, честь и польза России приумножатся. Простая истина, а кому ее скажешь, кому она дорога? Ханжам в рясах или иноземцам?