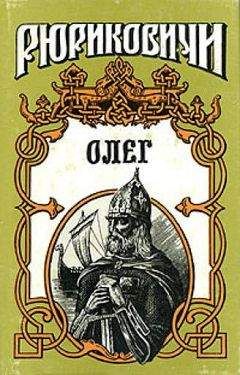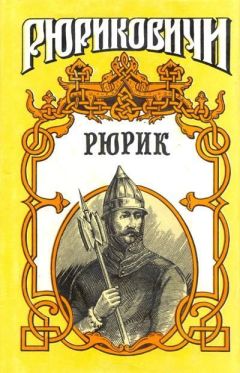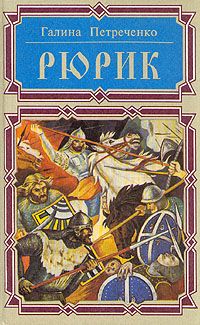Толпа русичей, провожающих Олафа во Плесков, одобрительно загомонила, улыбнулась князьям, а затем торжественно запела напутственную песнь варягов, прославляющую силы неба и земли, воды и воздуха, несущие удачу соплеменникам во время их трудного путешествия.
Верховный жрец русичей привел на пристань белогривого священного коня, и тот величественно кивал отъезжающим длинноволосой головой, прощаясь и одновременно уже зазывая их домой. В священном коне русичи видели воплощение крепких связей мира животного не только с миром человеческим, но и с миром богов, который определяет жизнь людей.
Олаф потрепал по загривку белогривого красавца, поцеловал его в умную морду, затем с трудом оторвался от коня и подошел к жене. Обнял Рюриковну, поцеловал ее в глаза и лоб, затем нагнулся к Ингварю и протянул ему правую руку.
— Ну, княжич, пойдешь с нами права плесковичей защищать? — громко спросил он, чтоб слышали все, кому любопытны были отношения дяди и племянника.
Пристань затихла. И даже волны Ильменя перестали плескаться о берег.
Ингварь сделал шаг назад от дяди и, покачав светловолосой головой, тихо сказал:
— Не пойду.
— Почему не пойдешь? — опять громким голосом спросил Олаф.
— Боюсь, — ответил тихо, но упрямо Ингварь. А Олаф требовал свое:
— Кого боишься? — еще громче спросил он.
— Словен, — мрачно выговорил княжич.
— Я буду защищать тебя от словен! — гордо заявил Олаф.
— Все равно, не пойду с тобой! — упрямо заявил Ингварь, отвернулся от Олафа и побежал к сестре.
Рюриковна прижала его к себе и, нагнувшись, шепнула на ухо:
— Негоже, княжич, себя ведешь. Стыдно проявлять лень и трусость! Ты — великий князь!
— Я не князь! Он — князь! — по-детски откровенно изрек Ингварь и снова прижался к сестре.
— Ну что мне с тобой делать? — взмолилась Рюриковна. — Может, передумаешь, пойдешь с дядей? Надо же когда-то начинать привыкать к княжеским делам и сживаться с княжьим духом!
— Потом, когда дядя умрет, — буркнул Ингварь и пророчески добавил: — К той поре и обрету я княжий дух, как ты говоришь.
— Да к той поре надобно укрепить в себе княжий дух, а ты его только обретать собираешься! Что бы отец о тебе сказал, как ты думаешь?
— Не ведаю… Я его уже забыл.
Рюриковна побледнела.
— Ну что мне с тобой делать?! — в отчаянии спросила она саму себя и беспомощно посмотрела на мать и Дагара.
Руцина промолчала: она все еще не могла простить Рюрику его третьей, самой любимой, но раньше всех умершей жены, той, что подарила первому великому князю Северного объединения словенских племен наследника великокняжеской власти. Она неприязненно смотрела на княжича, видя в нем черты лица той, которая навечно отняла у нее любимого мужа, и, несмотря на присутствие Дагара, скрасившего ее одинокую старость, резко сказала:
— Не хнычь, княжич! А ты бы, дочка, поменьше баловала его!
— Мама! Он же сирота на этом свете!
— Давно пора своего ребенка иметь! Уж сколько лет с мужем спишь! — резко прошипела Рудина.
Рюриковна вспыхнула, хотела сказать этой статной рыжеволосой, самой красивой женщине Рюрикова городища, стоящей рядом с Дагаром, что скоро она, эта гордая красавица свейка, станет бабушкой, но, окинув взглядом пышный наряд матери, смолчала. Хоть Руцине и было под пятьдесят, никто бы во всем Северном, да и в Южном объединении словенских племен не посмел бы сказать, что это женщина может быть бабушкой. Не было в ее глазах и в улыбке доброты. Одно только торжество женской плоти сквозило в манере одеваться и вести разговоры с кем бы то ни было. Вот за что любит ее Дагар! Этот великолепный меченосец правой руки, служивший верой и правдой еще деду Рюриковны, князю Сакровиру!..
Рюриковна грустно посмотрела на брата.
— Пошли к очагу, сказки сказывать, — протянул Ингварь и взял сестру за обе руки.
— В нем слишком много от Эфанды, — вздохнул Дагар и посоветовал Рюриковне: — Отпускай Олафа скорее, ибо подул попутный ветер.
Рюриковна увидела, что все готовы к отплытию, и взмахнула белым платком. И триста ладей русичей тронулись на юг!
Плесковская пристань была закрыта, и это, после некоторых раздумий, все же больше понравилось Олафу, ибо требовало от него деятельной решительности, ради которой он, наверное, и появился на этот свет. Снова судьба бросала ему вызов, будто испытывая на крепость его голову и душу, и предлагала решить непростую задачу, как взять два непокорных города — Изборск и Плесков, города-побратимы, построенные одним словенским народом — кривичами: сразу, с ходу, пока душа горит, или дать отдохнуть дружине, ибо путь ко Плесковской пристани Олаф выбрал не традиционный, северный — через реку Волхов, Ладожское озеро, реку Неву, Варяжское море и цепь озер от Нарвы до Плесковского причала. Этот традиционный путь грозил разрушить все планы Олафа, ибо был слишком длинным и открытым. Олаф убедил дружину идти напрямик, то есть прямо из озера Ильмень в устье реки Шелонь, затем — волок через цепь мелких озер и почти несудоходных речек, кроме одной, достойной уважения реки Великой — и вот вам, друже, Плесков со своей взыгравшей словенской гордыней. Соль в глаза вашей гордыне — государыне приготовились подсыпать приехавшие русичи, ибо шли через ваши солонцы. Ну, плесковичи, держитесь!
— Единственное, что хорошо умеют делать словенские старейшины, — это разозлить! — сказал Олаф, а Стемир в ответ на раздражение своего друга, смеясь, возразил:
— Не только! Посмотри на красавицу пристань! Какая любовь к дереву! Ты посмотри, как мудрено она закрыта для нас! Нет, такой народ надо брать не солью в глаза, а медом в рот!
— Нужен им наш мед! — буркнул Олаф. — Они давным-давно познали ценность кобыльего молока.
— Вот это народ! — восхищенно присвистнул Стемир и добродушно посоветовал Олафу: — Не горячись, дай отдохнуть дружине, не то ропота не оберешься — такой путь проломили за три дня! Где это видано, чтоб сами и волоком тащили суда, и гребли сами!
— Зато ни одна рать так крепко мечом не владеет, как моя! — гордо отозвался Олаф.
— Знаю! Эту новую разминку для наших плеч и спин ты ввел еще в Ладоге! Мы там научились всему, — не то с задором, не то с норовом проговорил Стемир и глянул на друга исподлобья.
— Так это мне отец еще в детстве внушал, как стать сильным и ловким!.. А посла Эбона никогда не возмущали наши правила! Так отчего же его сынок вдруг стал брыкаться?
Ежели у меня родится сын, то я непременно отдам его в твою дружину. Боюсь, что ты — единственный, кто способен из неразумных отроков делать настоящих воинов.
Что, не веришь? Это дума не только моя! Я об Ингваре, — хмуро напомнил Олаф. — Рюриковна считает, что я…
— Здесь кровь Эфанды взяла свое, — прервал Олафа Стемир, — Может быть, вон та вспыхнувшая только что звездочка и есть ее душа? Может быть, она хочет посветить нам и пожелать удачи?
Олаф смотрел на Стемира широко раскрытыми глазами и не верил своим ушам. Подумать только, этот избалованный сынок посла Эбона, которому в жизни все давалось легко и просто, на самом деле был глубоко несчастен! Знать, что умен, ловок, остер на язык и обожаем всеми, но не любим той, которая была ему нужна больше всего на свете! Олаф подумал, что боги, наверное, специально что-нибудь недодают человеку, и подался к другу.
— Я так и не смог смириться! Нашел ту ель, под которой она промокла тогда под дождем, и молил богов, чтобы меня постигла та же участь…
— Стемир!.. — Олаф, потрясенный, сжал плечи друга и хотел было попросить, чтобы он замолчал и не терзал свое сердце воспоминаниями, но в самый последний миг вдруг понял, что Стемира просто прорвало, как бывает со всеми, кто пытается быть скрытным и все держит в себе. — Прости меня, — едва слышно прошептал Олаф, чувствуя, как слезы застилают ему глаза.
— А чем бы ты помог мне! Нам же с тобой по шестнадцать лет было… Я думал, с посвящением в мужчины все пройдет, наложницы, мол, отвлекут меня своим умением стирать с нашего чела дух памяти, и постепенно забуду я Эфанду!.. Но нам никогда не избавиться от нашего прошлого! — обреченно вздохнул Стемир и грустно добавил: — Хоть бы скорее какое-нибудь живое дело началось! Драться хочется!
Олаф улыбнулся: жизнь возвращалась к его другу.
— Я рад, что наконец узнал всю глубину твоей души, Стемир! Теперь ты мне не просто друг! Теперь ты мне брат! — искренне, очень тихо проговорил Олаф, ощущая, как только что вспыхнувшая новая, яркая искра их дружбы проникла ему в кровь. Теперь он Стемира ни на шаг не отпустит от себя.
На следующее утро великореченская уютная бухточка, что пригрела своим ласковым лукоморьем триста ладей русичей, оживилась.
Олаф послал лазутчиков на пристань еще раз и возбужденно ждал их возвращения. Дружинники возились в ладьях, как жуки-щитоносцы, и требовали от князя причалить к суше. «Ноги от воды устали, размяться надо бы», — слышалось то тут, то там, но Олаф медлил. На берегу могла быть засада. Пока они в ладьях, они неуязвимы, а рисковать без нужды — дело глупцов. Видя нетерпеливые, жаждущие горячего действа лица, Олаф вынужден был поднять правую руку вверх с крепко сжатым кулаком. Это означало: «Нет! Берег опасен!» Когда со всех ладей русичи разглядели символический приказ своего предводителя, рокот быстро стих, и каждая ладья превратилась в спокойно дремлющую на воде после сытного обеда утицу.