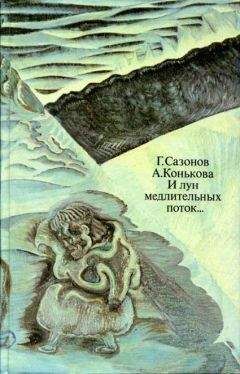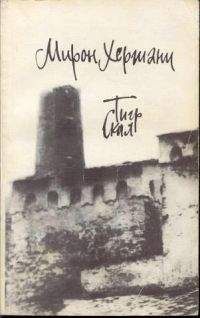— Ай-е! Что же это?
— Енот! — захохотал купец и подмигнул Кирэну. — Зверь такой редкостный — енот.
— Е-е-но-от?! — выдохнули пораженные охотники. — Е-ено-от… Шипко мех добрый… Ено-от — пальшой сверь? Как волк он? Как росомаха он? Кровь пьет али терево клотает?
— Енот-то? — рассмеялся Пагулев, разжимая узкие замерзшие губы. — Как собачка он, щенок с виду…
— Сопа-чка? — удивились манси. — Совсем сопачка, а мех такой топрый носит? Ай-е! Щох-щох!
Хотел кучер Ефим шубу с купца снять — тепло в избе, огонь заиграл в чувале, только Пагулев не позволил, отстранил рукой. Остался купец в собольей шубе — нёхысъях, расстегнул у ворота литые серебряные пуговицы с двухголовой птицей. Наверно, глухарь та птица — шея длинная, башка здоровая, только когти злые. Купец в царской шубе прохаживался по избе, поколачивая нога об ногу, обутый в белые поярковые пимы. Пимы изукрашены причудливым узором, где в сплетении фиолетовых струй гребенчатый сине-зеленый дракон на коротких ногах разевал красную свирепую пасть. Собака Кирэна незаметно проскользнула в избу, увидела это чудовище. Обомлела собака, вздыбилась шерсть на загривке, злобно зарычала.
— Зазяб маленько, — потирая крупные, тяжелые ладони, протянул купец. — Ну-ка, подай, хозяин, посудину поболее. Ноги надобно погреть.
— Как ноки? Какие ноки креть, чуман совсем колотный! — недоверчиво поглядел на купца Кирэн. — Сопсем, как снек колотный…
— Тащи! — приказал купец.
Кирэн вышел в сенки, вынес заиндевевший чуман и поставил перед купцом. Кучер Ефим из саней вынул бочонок-лагун, распечатал его и вылил в чуман «царскую воду» — спирт. Не торопясь, молча подошел Ефим к своему хозяину, помог ему сбросить соболью шубу, усадил купца на лавку, присел, бережно стащил с ног пимы. Освободил купцу ноги от меховых носков.
— Из белки носки, — прошептали у двери.
— Да он — что? Разулся, теперь винку пить станет, а? Может, он штаны снимет, может, это обычай такой? Да разве можно столько белого вина… столько водки одному выпить? — шелестели манси у порога. — Тут на всех евринских мужиков хватит, о Великое Небо!
Пагулев слушал и все понимал, о чем завистливо шептали евринские вогулы, покашливая и посапывая трубками. Осторожно, медленно опустил он левую ногу в чуман, потом опустил правую. Долго в загустевшем молчании сидел Пагулев, зорко и остро оглядывая мансийцев-вогулов, а те уже битком забили переднюю избу: пришли посмотреть на важного гостя, богача купца, который словно не замечал их, булькал и плескал ногами в спирте.
Сельян Кентин с удивлением, горячо дыша, зашептал на ухо Мирону:
— Однако богатый. Ай-е! В таком добре ноги моет?! А в чем же он морду моет, Мирон?
Пагулев из кармана меховой телогрейки вынул белоснежный батистовый платок. Крепко, до хруста, обтер им ноги, встряхнул и бросил платок в чуман.
— Ефим, — позвал кучера купец. — Выплесни-ка помои на улицу.
У евринцев от спиртного духа кружилась голова, сжимало горло и рот наполнялся слюною. Ефим, приподняв чуман, пошел к двери, держа посудину в вытянутых руках. Он раздвинул плечом мужчин, саданул ногой по двери и вышел за порог. Тусклое солнце кралось над темным лесом, брусничной алостью подернулись сугробы, высверкивая синевато-колючими снежинками. На ограде снегириной стайкой повисли мальчишки, таращили глазенки и шмыгали мокрыми носами. Оглянулся Ефим, размахнулся было, но тут к крыльцу торопливо подскочил опоздавший Сандро Молотков.
— Хочешь? — властно предложил Ефим. — На, бери давай!
Сандро даже присел, не понял, что сует ему бородатый русский, молча принял в руки чуман. Наклонился Сандро, втянул в себя воздух, шибануло спиртным духом.
— Астюх! Да чтоб меня холодной водой облили! — выдохнул Сандро и побежал домой в свою берестяную юрту, в свой домишко-кялкеле. Скорее!.. Быстрее!.. Скорее, как бы не раздумал потерявший рассудок чернобородый.
Ефим вернулся в избу, когда купец натягивал на покрасневшие ноги беличьи носки и спрашивал Кирэна:
— Ну, как? Много нынче пушнины у ваших охотников?
— Есть маленько… Есть шкурка, прат Пакулев… Соболь есть — нёхыс, колонок, куниса есть… пелка.
— А много ли рыбы добыли?
— О! Рыпка есть маленько. Урак топрый… Есть рыпка, хватит и тебе, прат Пакулев. Урак есть, сало-жир есть.
— Завтра в полдень али вечером обоз мой из Пелыма подойдет, — сообщил купец, обувая пимы, и поднялся, головой доставая потолок. — Хлеба дам!
— Хлепа даст, — прошептали евринцы.
— Чай, сахар дам!
— Чай-сахар! О, это сторово!
Немало торговцев приезжало в Евру. Но то была купеческая мелкота либо чьи-то приказчики. Появлялся иногда и купец средней руки. Однако такого размашистого, богатого купца видели у себя евринцы впервые. Вот уж купец так купец!
— Соли дам… Порох-дробь. Железный товар есть — ножи, топоры, пилы, котлы медные, капканы. Дружить станем, торговать-менять будем. Не обманете меня? — хрипло засмеялся Пагулев.
— Не, неможно оммануть, — заторопились голоса из толпы. — Как так? Мы — чесный люди! Ты хлеп тавай, тапак тавай, совсем мох курим. Сахар маленько тавай репятишкам. Не омманем! Ты маленько белого вина тай!
— Поднеси-ка им по чарке, Ефим, — распорядился купец и вышел в другую, чистую половину избы.
2
А Сандро Молотков по узкой обледенелой тропинке торопился к своей старенькой юрте, вросшей в землю избенке, покрытой берестой и дранкой. Торопился и боялся расплескать дорогое белое вино, драгоценную огненную воду. Вот уж в мыслях не было, не думал не гадал, как в сказке, ни с того ни с сего такой подарок. А огненная вода колышется, живая она, плещется в чумане, и в ней, как на волне, тонкий прозрачный платок, как белая бабочка, что замочила крылья и никак не может подняться. Нету у нее сил, легкой бабочки, беспечной и глупой.
Попался на пути сосед, встретился дружок.
— Идем ко мне в гости! — криком кричит Сандро, ликует, словно голыми руками у себя в постели соболя поймал.
— Чего ты в руках так смирно держишь, Сандро? — спрашивают встречные.
— Белое вино смирно в руках держу! Идем в гости!
— Наверное, ты, Сандро, зачерпнул вино в мышином озере. Там вода заморная, горелая. Совсем тухлая. Шибко по носу бьет, издохнуть можно, — засмеялся сосед.
— Идем-идем! — заторопил Сандро. — Идем, я не жадный!
Зашли дружки в юрту, заглянули в чуман. Верно, полон чуман огненной воды! И белая тряпка поверху распласталась.
— А это-то почему? — спросили дружки, разглядывая платок.
— Так надо! — отрезал Сандро. — Наверно, моей бабе подарок! — Сандро пальцем, как крючком, подцепил платок, выжал его насухо над чуманом, так и эдак посмотрел на него и позвал жену. Аринэ кормила грудью младенца, долгожданного сына.
— Возьми, женщина, платок. Подарок тебе от русского купца.
Аринэ молча глядела на мужа, на дружков, что нетерпеливо ворочались в своих шубах, неловко двигались перед чувалом. Младенец тихо чмокал губами, а женщина ничего не понимала, откуда, зачем этот белый тонкий платок.
Сандро поставил на стол берестяной черпак, треснутые чашки, выщербленную по краю глиняную кружку, налил себе и дружкам огненной воды. И пошел черпак-черпачок вкруговую, как лебедь вокруг лебедицы. Крякали селезнем, шумно, со свистом выдыхали из себя воздух мужчины, сладостно причмокивали. Силком усадили за стол Аринэ, плеснули ей белого вина. Выпила Аринэ, жаром полыхнуло в груди, затуманилось в голове. Ушла она в свой угол к детям, потихоньку принялась покачивать апу — берестяную люльку, в которой спал малыш.
Мужчины стащили с себя шабуры. Глотнули еще огненной воды и запели. Сидят за столом, покачиваются и поют, только не сразу поймешь те песни. Один поет, как он соболя в урмане выслеживает, другой поет, как он глубоко в омут ныряет, точно утка-гоголь, третий поет, как он острогой бьет щуку в озере. Щука не рыба, щука — это зубастый страшный зверь с холодной кровью, которого прокляли духи, прогнали из леса и заставили жить в реке. Конечно, щука не рыба, она зверь. Все знают, что она утят глотает, как сырка, чебака глотает, даже деток своих глотает. Здорово захмелели, бросились обниматься, хвастать друг перед Другом, какой он фартовый охотник, какой он отменный рыбак. На шумную гульбу-застолье стали подходить евринцы. Лозьвины подошли и Кентины, кто-то из Качиных подошел, набились в юрту, как язь в кямку — морду. Кто-то сбегал к Кирэну, за шкурку красной лисы, за соболишку добыл еще белого вина, и вновь вспыхнуло затлевшее было застолье.
Не помнится, да как разберешь, кто из мужчин трубку принялся раскуривать, кто поджег тонкую лучину от жирника, понес через стол да пошатнулся и уронил горящую в чуман. Огненная вода вспыхнула. Как живое задрожало голубое жадное пламя и, дрожа, неслышно заметалось по стенкам чумана, и береста вспучилась, закорчилась судорожно. Чуман вспух, выкинул дно и выплеснул пламя на стол. Со стола по березовым ножкам пламя потекло на пол, в угол, где грудой свалена была одежда, и кинулось на нее. А мужики, обнявшись за плечи, пели и удивленно смотрели, как пляшут, извиваясь, синеватые язычки. Уставились друг на друга, как караси, тыкали пальцем и тоненько смеялись — пламя отбрасывало на смугло-медные лица фиолетовые тени.