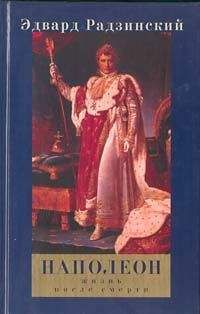Император, как всегда, пил кофе, когда я пришел в каюту. Сидел с отсутствующим видом с чашкой в руках. Потом поставил ее на стол и начал диктовать, даже не поздоровавшись:
— Коронация… Это было… будто в другой жизни… Не записывайте — фраза банальна. Тысячу лет назад Папа короновал Карла Великого. С тех пор ни один из королей не мог похвастать, что его короновал наместник Господа. И вот я, будущий объединитель Европы, объявил себя наследником великого императора. И Папа согласился возродить тысячелетнее прошлое. Да еще с важнейшей поправкой — не я к нему, а он ко мне приехал. Иначе я попросту отобрал бы у него все его владения. Так что у него было два выхода — приехать или очень пострадать. Он предпочел приехать… Чтобы сохранить достоинство, Папе пришлось пошутить: «В конце концов Рим отомстил галлам: Бонапарт, родом итальянец, будет теперь управлять этими варварами».
Я встретил его в Фонтенбло. Чтобы не целовать ему руку, я не вышел из экипажа, его пересадили в мою карету. Я едва сдерживал смех, глядя на этого хитрющего итальянского графа, ставшего Папой. В его глазах вместо святости я прочел лишь нетерпеливое ожидание. Он хотел знать, что получит за свой приезд… Я отвел ему дворцовый «Павильон Флоры», перестроенный в знак уважения в стиле Ватиканских дворцов. Ему подарили драгоценную тиару, столь дорогую, что он постеснялся ее носить и выставил в Сикстинской капелле. Великолепный экипаж, увенчанный папской тиарой, должен был везти его в Нотр-Дам…
И тут выяснилось, что мы с Жозефиной… не венчаны! Я как-то об этом никогда не думал… А оказалось, что она «от этого всегда очень страдала».
Перед коронацией состоялось наше тайное венчание. Она была счастлива. И, конечно же, приняла самое пылкое участие в создании своего туалета для коронации. Она порядком надоела знаменитому ювелиру, который делал (точнее, бесконечно переделывал) ее корону.
Я был автором всего действа — разработал его детально, как диспозицию сражения. Мои ученые по пергаментам изучили древнюю церемонию коронации Карла Великого. Но я придумал внести в нее некоторую неожиданность, которая должна была всем показать: коронуется император республики! Но об этом после…
Повторюсь: я занимался всем — утвердил великолепный декор Нотр-Дам во время коронации, убранство ложи, где должна была сидеть мать… Мне показали коронационные костюмы приглашенных в собор (список составлял я). Маленьких куколок в этих костюмах расставили на моем столе в кабинете. Я и Жозефина склонились над ними: Папа, кардиналы, придворные (так теперь именовались вчерашние республиканцы) вы-строились на столе. Я чувствовал себя судьбой, смотрящей сверху на крошечных жалких людей. Я также утвердил корону и скипетр, который скопировали со скипетра Карла Великого. И свое новое имя — «Наполеон Первый, император французов».
Наступил день коронации. Все шло великолепно, как я и задумал. Папа шествовал в собор, окруженный духовенством. Правда, по древнему обычаю впереди него шествовал осел, напоминая о въезде Христа в Иерусалим, что весьма повеселило парижан и несколько нарушило торжественность шествия… В собор я прибыл после Папы. Нотр-Дам сверкал золотом и драгоценностями коронационных костюмов. Сверкала и моя мантия, которую надели на меня в соборе — все те же драгоценности, то же золотое шитье… Весила она изрядно, но я терпел.
Папа сидел в окружении кардиналов. Мы с Жозефиной преклонили колени, и он совершил обряд помазания, благословил нас. И наступил главный момент, которого все ждали, думаю, со злорадством: я, коленопреклоненный, должен был получить корону из рук Папы. И он уже протянул руки к алтарю, где лежала корона, чтобы возложить на мою голову… но я преспокойно поднялся и взял корону сам. И, повернувшись спиной к Папе и лицом к собравшимся, сам возложил ее на себя! После чего надел корону и на голову коленопреклоненной Жозефины.
Да, я сам заработал свою корону — и сам должен был надеть ее на себя. Недаром эта корона была сделана в виде лаврового венца из золотых листьев — языческая корона императоров Римской республики. Ибо я — император республики Французской! И весь Нотр-Дам ахнул от восторга!
Когда я возлагал корону на голову Жозефины, я увидел слезы на ее глазах. И хотя вначале я много шутил по поводу этого несколько маскарадного зрелища, но в тот момент тоже был взволнован…
Потом я сел на трон с вензелем моего нового имени. Золотые пчелы и орлы, украшавшие трон, олицетворяли постоянный труд и воинский подвиг. И сидя на троне, я прошептал достаточно громко, чтобы услышал Жозеф: «Если бы наш отец увидел все это!»
Правда, когда все закончилось, я тотчас сбросил мантию и сказал брату: «О, счастье! Теперь я могу хотя бы свободно дышать».
Когда я вышел из собора, сразу спросил Фуше:
«Как все прошло?»
«Великолепно».
«А что враги?»
«Хвалят зрелище, но своеобразно: „Золотое шитье, пудра на париках — все как в добрые старые времена. Не достает только трехсот тысяч французов, которые сложили голову, чтобы сделать такую церемонию невозможной“.
Еще он сообщил, что Байрон и Бетховен отказали мне в былой любви. Он умел отравить настроение…
Император помолчал и добавил загадочно:
— Ничего, скоро я верну любовь лучших людей Европы, поверьте…
И продолжил диктовать:
— За ужином я сказал Жозефине: «Слава Богу, и это вынесли… Четыре часа церемонии! Теперь королям придется называть меня братом». Но она не принимала шуток. Она была потрясена. И я попросил Жозефину о том, чего она хотела больше всего: «Не снимай корону за ужином». Она была счастлива и ужинала в короне.
А ведь это действительно было чудо! Чудо, которое сотворил я сам. Моя жена — в короне! Боже мой, моя жена — императрица!
Вот так появилась во Франции Четвертая династия. Меровинги, Каролинги, Капетинги и вот теперь Бонапарты… И надпись, вызывавшая вначале улыбки, но для меня полная смысла: «Император, согласно Конституции республики». Все как в любимом Риме. Я вернул времена Цезаря…
А потом я короновался в Италии, где все повторил: кардинал протянул корону, но я сам возложил ее на себя — самую древнюю в Европе железную корону ломбардов. «Мне дал ее Бог. И горе тому, кто на нее посягнет», — повторил я древние слова… Естественно, потом я навестил могилу Карла Великого.
Но трон оставался для меня не больше, чем куском дерева. Коронации, все эти титулы нужны были только моему государству. Никто в моем доме не заметил, чтобы я хоть как-то после этого изменился. Огонь в камине, одеколон после бритья, разбавленный «Шамбертен» и ванна два раза в день — вот все, что мне было нужно.
Ибо подлинные времена величия и поклонения прошли. Я как-то сказал Жозефине: «Я слишком поздно родился. Я прошел прекрасный путь, чего тут гневить Бога. Можно считать, что я уже повелеваю Европой и вскоре всю ее завоюю. Может быть, покорю Англию, и моя империя охватит больше земель, чем империя Александра Македонского. Но и тогда нельзя будет сравнить мое могущество с величием Александра. Завоевав Азию, он объявил себя сыном Зевса, и весь Восток ему верил. Если бы я объявил себя сыном Отца Небесного, любая рыбная торговка подняла бы меня на смех…»
Жозефина посмотрела на меня в ужасе, как на сумасшедшего. А я ведь шутил. Да, шутил…
Император помолчал и добавил глухо:
— Жалкий век лавочников! Величия не осталось на мою долю… Всюду стена!
Он долго сидел, задумавшись. Потом сказал:
— Вычеркните… — И продолжил: — Коронация примирила меня со старыми аристократами. Я разрешил им вернуться. И они радостно возвращались. С каким изяществом они произносили знакомые слова: «Сир… Мадам…» Слова их молодости!
После коронации мои генералы стали маршалами. Эти вчерашние сыновья лавочников, трактирщиков, булочников должны были носить придворные костюмы. Но бархат, золотое шитье плохо сидели на израненных телах… Их супруги теперь учились танцевать и вести беседу так, чтобы Европа не померла от смеха. И это было ох как нелегко! К примеру, жена маршала Лефевра, камергера моего двора, известная в юности в одном портовом заведении под прозвищем «Мадам без церемоний», никак не могла забыть свой живописный жаргон…
Нашли чудом уцелевших в революцию гофмейстера двора Людовика Шестнадцатого и камеристку Марии Антуанетты. И еще я позвал Тальма. Они учили всю эту компанию поддерживать достоинство самого могущественного двора Европы.
Вчерашние консулы теперь именовались архиканцлером и архиказначеем, Талейран — обер-камергером, а Фуше — графом… Первое время многие (как и я) сохраняли юмор и подшучивали над переменами. Но уже скоро желание придворного мундира или крестика Почетного Легиона у всех этих вчерашних якобинцев превратилось в какую-то неукротимую страсть. Даже у Фуше, столь нелепого в роскошной мантии и шитом золотом мундире… даже у него появился этот голодный блеск в глазах. Кровавому якобинцу и члену Конвента стало мало титула графа, и мне пришлось сделать его герцогом Отрантским и навесить на него Большой крест Почетного Легиона. И он гордо вышагивал во всем этом великолепии — узкоплечий, с лицом мертвеца…