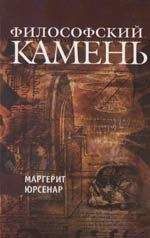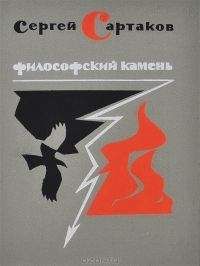Напрашивалась более текучая метафора — плод его былых морских странствий. Философ, пытавшийся увидеть человеческий ум в его цельности, представлял себе некую массу, ограниченную кривыми, которые могут быть вычислены, испещренную течениями, карту которых можно составить, изрытую глубокими складками под влиянием воздушных потоков и тяжелой инерции воды. Образы, создаваемые умом, были подобны тем громадным водяным валам, что осаждают друг друга или набегают друг на друга на поверхности пучины; в конце концов каждое понятие поглощается своей противоположностью, подобно тому как взаимно уничтожаются две столкнувшиеся волны, превращаясь в единую белую пену. Зенон следил за этим беспорядочным потоком, который, точно обломки крушения, уносил те немногие ощутимые истины, что кажутся нам бесспорными. Иногда ему чудилось, что под этим течением он различает неподвижную субстанцию, которая относится к мыслям так же, как мысли — к словам. Но не было доказательств тому, что этот субстрат окажется последним пластом и за этой неподвижностью не кроется движение, слишком быстрое для человеческого восприятия. С той поры, как он отказался выражать свою мысль словами или в письменном виде выставлять ее на прилавках книгоиздателей, это лишение побудило его еще глубже погрузиться в изучение понятий в их чистом виде. Теперь ради еще более глубокого исследования он временно отказывался от самих понятий; он задерживал мысль, как задерживают дыхание, чтобы лучше расслышать шум колес, которые вращаются так быстро, что даже не замечаешь их вращения.
Из мира идей он возвращался в мир более плотный — к субстанции, сдерживаемой и ограниченной формой. Запершись в своей комнате, он посвящал теперь свои ночные бдения не стараниям уловить более точные отношения между вещами, но сокровенным размышлениям над самой природой вещей. Таким способом он исправлял порок умствования, которое стремится овладеть предметом, чтобы заставить его служить себе, или, наоборот, отбрасывает его, не позаботившись сначала проникнуть в своеродную его субстанцию. Так, вода была для него прежде напитком, утоляющим жажду, жидкостью, которая моет, составной частью мира, сотворенного христианским демиургом, о котором ему поведал когда-то каноник Бартоломе Кампанус, говоривший о Духе, носившемся над водою; она была важным элементом гидравлики Архимеда и физики Фалеса Милетского или алхимическим знаком сил, направленных книзу. Когда-то он вычислял перемещения ее, отмерял дозы, ожидал, чтобы капли претерпели превращение в трубках перегонного куба. Ныне, отказавшись от наблюдения извне, которое старается разъять и обособить, в пользу видения изнутри, свойственного философу-герметисту, он предоставлял воде, которая присутствует во всем, захлестывать его комнату, подобно волнам потопа. Шкаф, скамейки пускались вплавь, стены проламывались под давлением воды. Он уступал потоку влаги, которая готова принять любую форму, но не поддается сжатию; он делал опыты, следя за изменением поверхности воды, превращающейся в пар, и за дождем, превращающимся в снег; он пытался восчувствовать временную скованность льда или скольжение прозрачной капли, которая в своем движении по стеклу по необъяснимой причине уклоняется вдруг в сторону — этакий текущий вызов предсказаниям составителей расчетов. Он отказывался от ощущений тепла и холода, присущих телу: вода выносит трупы так же равнодушно, как груду водорослей. Потом, вновь облекаясь покровом собственной плоти, он находил и в ней жидкий элемент — мочу в мочевом пузыре, слюну во рту, воду, входящую в состав крови. Вслед за тем, обращаясь мыслью к тому элементу, частицей которого всегда ощущал себя, он размышлял об огне, чувствуя в себе умеренное и благотворное тепло, которым люди наделены наравне с четвероногими и птицами. Он думал о губительном пламени лихорадки, который так часто без успеха пытался погасить. Ему был внятен жадный взлет занимающегося огня, багряное веселье его пыланья и его гибель в черной пепле. Осмеливаясь идти далее, он проникался безжалостным жаром, истребляющим все, к чему он ни прикоснется; он вспоминал костер аутодафе, виденный им однажды в маленьком городке в Леоне, где были преданы сожжению четверо евреев, которых обвинили в том, что они лишь для виду приняли христианство, а на деле продолжают исполнять обряды, унаследованные от предков; вместе с ними сожгли еретика, отрицавшего силу таинств. Он воображал муку, которая не может быть выражена словом, он становился тем, кто обонял запах собственной горящей плоти; он кашлял, задыхаясь от дыма, которому суждено развеяться только после его смерти. Он видел, как почернелая нога, суставы которой лижут языки пламени, распрямившись, поднимается кверху, точно ветка, извивающаяся под вытяжкой очага; и в то же время он внушал себе, что огонь и поленья невинны. Он вспоминал, как назавтра после аутодафе, совершенного в Асторге, вдвоем со старым монахом-алхимиком Доном Бласом де Вела шел по обугленной площадке, которая походила на площадку перед хижиной углежогов; ученый доминиканец наклонился и тщательно выбрал из остывших головешек мелкие и легкие побелевшие кости, ища среди них luz — кость, которая, согласно иудейским верованиям, не поддается огню и служит залогом воскресения. Тогда он улыбнулся суевериям кабалиста. А теперь, в тоскливой испарине, он вскидывал голову и, если ночь была светлой, с какой-то бесстрастной любовью созерцал через стекло недосягаемое пламя небесных светил.
Но чем бы он ни занимался, размышления неизменно возвращали Зенона к человеческому телу — главному предмету его исследований. Он прекрасно знал, что в его снаряжении медика равная роль принадлежит искусным рукам и выведенным из опыта прописям, которые пополняются находками, также извлеченными из практики, а они, в свою очередь, ведут к теоретическим выводам, всегда временным: унция осмысленного наблюдения в его ремесле всегда дороже тонны вымыслов. И однако после стольких лет, отданных разборке человеческой машины, он корил себя за то, что не отважился на более смелое изучение этого царства в границах кожи, владыками которого мы себя мним, оставаясь на деле его узниками. В Эйгобе дервиш Дараци, с которым он подружился, показал ему приемы, которым научился в Персии в одном еретическом храме, ибо у Магомета, как и у Христа, есть свои инакомыслящие. И вот в монастырской каморке в Брюгге он вернулся к изысканиям, начатым когда-то во дворике, орошаемом источником. Они завели его далее, нежели все так называемые опыты in anima vili[19]. Лежа на спине, втянув живот и расширив грудную клетку, где мечется пугливый зверек; который мы называем сердцем, он усердно наполнял свои легкие, сознательно превращая себя в мешок с воздухом, уравновешенный небесными силами. Так до самых недр своего существа советовал ему дышать Дараци. Вместе с дервишем наблюдал он и за первыми признаками удушья. Он поднимал руку, поражаясь, что приказание отдано и принято, хотя мы в точности не знаем, что за властелин, которому служат более исправно, чем нам самим, скрепил своей подписью этот приказ; и в самом деле — он тысячи раз замечал, что желание, зародившееся в мозгу, даже если сосредоточить на нем все свои мыслительные усилия, способно заставить нас моргнуть или нахмурить брови не более, чем заклинания ребенка — сдвинуть камни. Для этого нужно молчаливое согласие какой-то части нашего существа, находящейся уже ближе к безднам тела. Кропотливо, как отделяют один от другого волокна стебля, он отделял друг от друга разные формы воли.
Он по мере сил старался управлять сложными движениями своего занятого работой мозга, но делал это подобно ремесленнику, осторожно прикасающемуся к колесам машины, которую не он собрал и которую не сумеет починить. Колас Гел лучше разбирался в своих ткацких станках, нежели он — в тонких движениях скрытого в его черепе механизма, который предназначен для мышления. Его собственный пульс, биение которого он так настойчиво изучал; совершенно не повиновался приказам, посылаемым его мозгом, но реагировал на страх или боль, до которых не опускался его дух. Орудие пола откликалось на мастурбацию, но это сознательное действие погружало его на миг в состояние, уже не подвластное его воле. Точно так же раз или два в жизни у него, к его стыду, непроизвольно брызнули слезы. Его кишки — алхимики куда более искусные, нежели когда-либо был он сам, — трансмутировали трупы животных или растений в живую материю, отделяя без его помощи полезное от бесполезного. Ignis inferiofae naturae[20]: коричневая грязь, искусно свернутая в спирали, еще дымящиеся от варки, которой она подверглась в своей реторте, или глиняный горшок с жидкостью, содержащей аммиак и селитру, были наглядным и зловонным доказательством работы, какая совершается в лабораториях, куда нам нет доступа. Зенону казалось, что отвращение людей утонченных и грубый гогот невежд вызваны не столько тем, что предметы эти оскорбляют наши чувства, сколько ужасом перед неотвратимым и тайным навыком тела. Погрузившись еще глубже в кромешную тьму внутренностей, он устремлял свое внимание на. устойчивый каркас из костей, спрятанный под плотью, который переживет его самого и несколько веков спустя будет единственным доказательством того, что он жил на свете; он проникал в глубь минерального состава этого каркаса, не подвластного его человеческим страстям и чувствам. Потом снова, как занавесом, затянув его недолговечной плотью, он рассматривал себя, лежащего в постели на грубой простыне, как некое целое, — и то сознательно расширял свое представление об этом островке жизни, находящемся в его владении, об этом плохо изученном материке, где ноги играют роль антиподов, то, наоборот, сужал его до размеров точки в необъятной Вселенной. Пользуясь наставлениями Дараци, oн старался переместить свое сознание из области мозга в другие части тела, наподобие того, как переносят в отдаленную провинцию столицу королевства. Он пытался то так, то эдак осветить лучом света эти темные галереи.