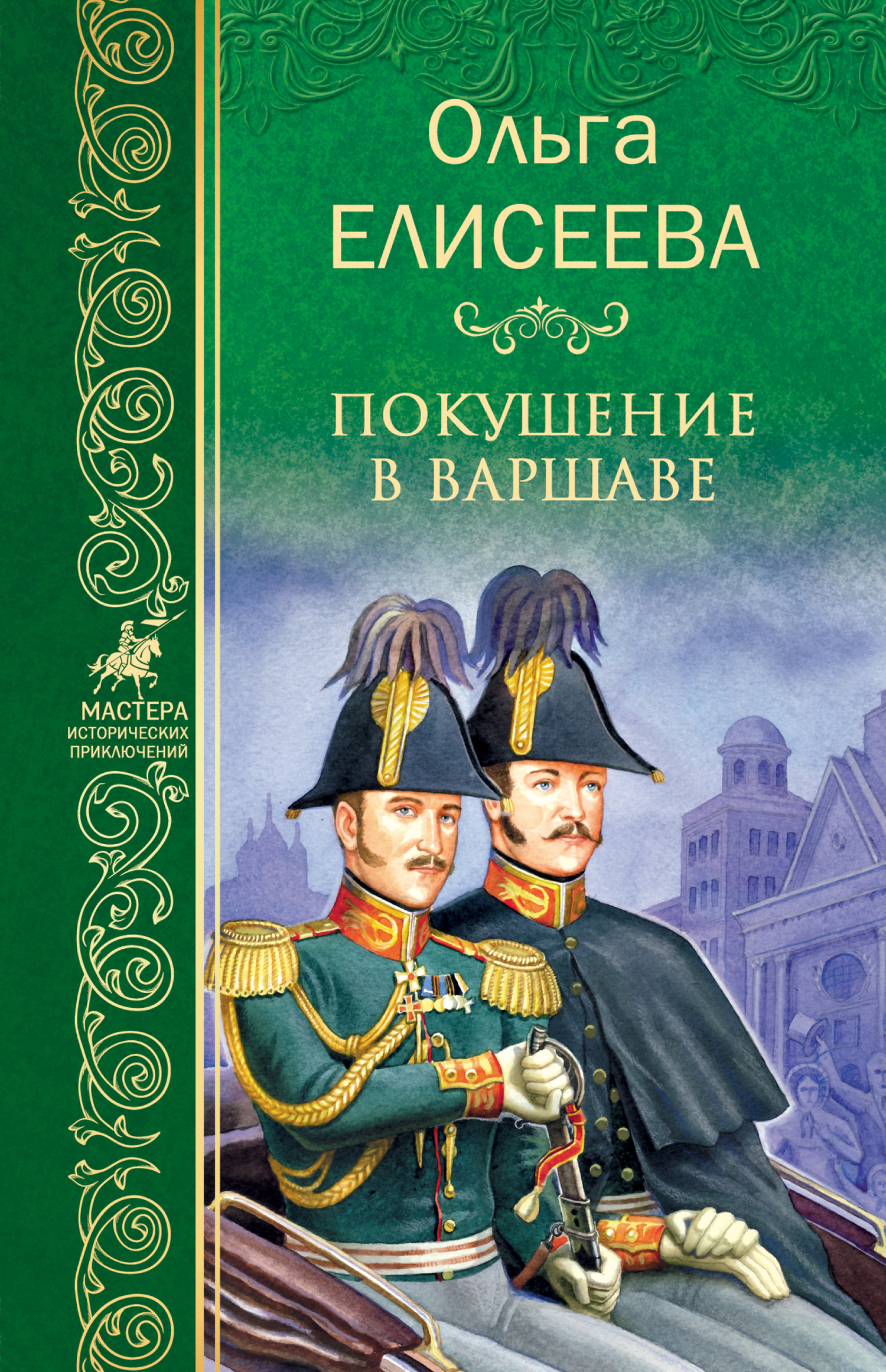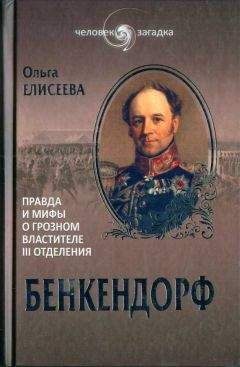честит.
Олёнка встала и тихонько пошла к двери. Щёлочка была небольшой, но через неё доносился только голос посетителя. Отец молчал. И, заглянув поглубже, она поняла почему. Тот еле крепился. От контузии Бенкендорф глотал буквы, что проявлялось только при сильном волнении. Но показывать это сейчас он считал унизительным.
— Папа́! — Дверь хлопнула. Младшая мадемуазель Бибикова возникла на пороге и очень требовательно воззрилась на Александра Христофоровича.
— Я сейчас! — голос отца прозвучал уверенно и сердито.
От сердца отлегло: справляется.
— Господин Вяземский, — Бенкендорф обратился к гостю. — Думаю, вы облегчили душу, вылив на меня ведро грязи, которое, по вашим собственным словам, предназначалось государю. Я счастлив был бы ещё некоторое время послужить вам плевательницей, но, увы, супруга с дочерьми ждут, — Александр Христофорович поклонился. — Ах да, напоследок...
Третья бумага из секретера легла перед посетителем. Пётр Андреевич не без внутреннего содрогания увидел своё стихотворение «Русский Бог», набело переписанное и отосланное другу Александру Тургеневу. Сразу становилось с ног на голову всё, сказанное об отечестве: «Бог всего, что есть некстати…»
— Вы никогда не поймёте, что есть наша любовь-ненависть, — бросил Вяземский. — Ясно, что вас обидело…
Бог бродяжных иноземцев,К нам зашедших на порог,Бог в особенности немцев,Вот он, вот он, русский Бог…
— Нимало. Вы полагаете, я не помню, кто по рождению? Или буду, вопреки истине, доказывать, что русский? Пока вы обнаруживаете подобные чувства, в этом имени немного чести.
Вяземский задохнулся.
— Думаете, что чтение чужой корреспонденции спасёт трон?
— Нет, — Бенкендорф покачал головой. — Но покажет, с кем имеем дело. Знаете, на театре бывает, когда актёр играет и сам себе верит. Зрители поневоле обманываются.
Не прощались. Вяземский вышел, хлопнув дверью. В мраморном вестибюле, спускаясь по чугунной лестнице, он даже не заметил скромно одетого юношу в длиннополом, с чужого плеча рединготе и с кучерской шляпой в руках.
— Вы что, на ярмарку нарядились? — сверху лестницы послышался голос Олёнки.
Молодой человек в ответ насупился, но поклонился.
— Вы к папа? — настаивала девушка. Вообще-то она редко показывалась перед посетителями. Но сегодня гости были что-то очень странными. — Лучше приходите завтра. Он сильно не в духе. Видели, какой до вас сердитый господин ушёл?
— А кто это? — осмелился юноша.
— Русский бог, — рассмеялась барышня.
Юноша был сбит с толку. Он внимательно рассматривал младшую мадемуазель Бибикову, точно был и рад ей, и не смел восхититься.
— Его высокопревосходительство ваш батюшка?
— Отчим, — покачала головой барышня. — Мне здесь нельзя. Это неприлично.
— Вам влетит?
— Ещё как!
— От отца?
Олёнка засмеялась и затрясла головой.
— От матушки. Папа ни на кого даже голос не повышает. Приходите завтра.
Жорж ушёл почему-то очень довольный, что девушка на верхней степени лестницы — падчерица Бенкендорфа, не дочь.
* * *
Между тем Сверчок благоденствовал в дружеских объятиях графини Закревской и уверял себя в том, что ему никто не причинит зла, пока его пассия имеет достаточно влияния на мужа.
Да, да, их связывала дружба. Так бывает между пресыщенной умной женщиной с богатыми задатками и молодым одарённым мужчиной, которым нечего предложить друг другу, кроме полного, абсолютного понимания.
Аграфена была не только лакомым куском, но и крепким орешком. Об неё легко ломали зубы и покойный государь Александр Павлович, и супруг, и десятки кавалеров, чьи имена сохранила лишь светская хроника, а сама красавица мигом выкинула из головы. Она не помнила зла, но всегда искала новизны ощущений. Сейчас менада лежала на оттоманке, покрытой леопардовыми шкурами, и бесстыдно подставляла теплу камина обнажённые бока. Её, как Марию Магдалину, покрывали только распущенные рыжие волосы, в руках поигрывал хрустальный бокал токайского, тигровым глазом светившегося сквозь огонь.
— В кого мне влюбиться? — капризно выгнув губы, спросила Аграфена. Её не смущало, что рядом сидел мужчина, минуту назад напрягавший силы, чтобы доставить ей удовольствие. Одного всегда мало, а графиня достигла такого развития желаний, когда мало и двоих.
— Помилуйте, — расхохотался Пушкин. — Вы так довели бедного Батюшкова до сумасшествия?
Закревская задумчиво кивнула. Батюшков её не интересовал. Мужчина — как ребус. Его любопытно разгадывать, но потом, когда уже взять нечего, какой прок держать возле себя?
— Я спрашиваю: кто в нашем скучном свете мог бы меня поразить? — требовательно повторила она. — Спрашиваю вас, поскольку наши оценки часто совпадают. Итак?
Сверчку стало не по себе. Ему точно заявляли, что сам он уже не годится.
— Итак, — повторила Аграфена. — Разберём имеющихся. Достоинства. Недостатки. Позабавьте меня.
— Да хоть в Вяземского! — вспылил Пушкин. — Чем не кавалер? Чем не калиф на час? — последней фразой он выдал своё раздражение.
— Князь Пётр скучный, — фыркнула Аграфена. — Сухарь. Я его терпеть не могу. К тому же у нас было.
Собеседник знал и бесился.
— Сузим круг. С кем у вас не было, сударыня?
Аграфена надолго задумалась.
— А ведь верно, — наконец сказала она. — Кого ни возьми: прошлое, прошлое, прошлое. Кстати, не всегда приятное. Говорят, государь наконец нарушил свои семейные добродетели? Мне никогда не приходилось развращать девственника. Ну, почти… Жена не считается.
* * *
День был ветреный. Досада трепала обоих. Пушкин и Вяземский из гостиницы Демута отправились гулять в Петропавловскую крепость. Нашли место!
Ругали правительство за то, что их не берут на войну. Ещё больше Бенкендорфа с его холодно-вежливой манерой отказов.
— Всё у нас так! — сказал Пётр Андреевич, обнимая Сверчка. — Время идёт, а ничего не меняется. Мы как не были нужны, так и не будем. С умом, с душой, с талантом. Николай Тургенев прав, навеки покинув отечество.
Оба были оскорблены выше всякой меры. Гулять в Летний сад не пошли. Там в заветный час бывала Оленина с матушкой и тёткой. Сегодня не до неё. Душа навыворот. Слёзы из глаз. И то, и другое горькое, не для барышень.
В крепости как-то спокойнее. Говорится о вечном. О Петре. О наших, которые здесь… которых здесь…
Остатки ледяного крошева всё ещё бились о стены. По гребню шёл крестный ход. Оба хвастались друг перед другом афеизмом, и оба, не сговариваясь, пристроились сзади, шли с опущенными головами, крестились.
С Финского в полнеба двигалась туча. Синяя, низкая, тяжёлая. Град ударил внезапно, когда из-за реки ещё лупило солнце. Стучал по камням, по лицам, по золотым окладам икон, по шёлку хоругвей.
— Здесь было, — подал голос Вяземский.
Отстали от хода, спустились в ров, где из земли ещё торчали остатки деревянных столбов, два года назад поддерживавших виселицу. Вяземский достал перочинный нож и стал отколупывать от пеньков щепки. По пяти для каждого. На память.
— Как ты только такое мог говорить? — с