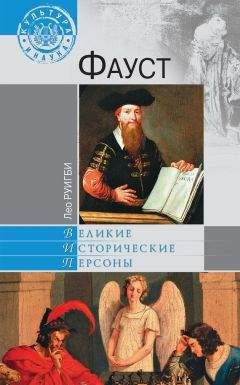Речные волны игриво плескались у илистого берега; раскачивались тяжелые соцветия куги, казавшиеся невесомыми под мартовским ветром. Обласканные журчанием потока и теплым дуновением ветерка, женщина и мужчина волшебно робкими шагами приблизились друг к другу. Мишелю показалось, что она хочет спросить: «Можно к вам прикоснуться?» Наконец их руки встретились, и после быстрого и чувственного прикосновения она начала говорить. Оказалось, что семья ее прибыла несколько месяцев назад в Ажан, где ее отец получил по завещанию дом и занялся мелкой торговлей. Прежде их семья жила далеко на юге, арендуя хутор. Она выросла там, под небом Гаскони, где при ясной погоде казалось, что до ближайших гор рукой подать.
— Тебе их очень жалко, твоих гор? — спросил Мишель и в то же время ощутил в сердце легкий укол печали, поскольку она ведь могла ответить, что, мол, скоро туда вернется.
— Иногда… иногда, конечно, но Гаронна тоже красива. — Она мечтательно улыбнулась. — Если только захотеть, можно везде быть близко к облакам…
Прежде чем Мишель успел согласиться с ней — это было так ему понятно и близко, — она, пританцовывая, вышла на песчаную косу, наклонилась, выпрямилась, что-то сжимая в пальцах, и протянула ему руку.
— Смотри, — сказала, — галька. И больше ничего, только камешек. Никто его не заметит, пока он лежит сухой на берегу. Но если его обласкает волна, он засверкает волшебным светом, почти как жемчужина. Такие вещи нужно только знать, и тогда везде будет родина.
— Родина, — пробормотал Мишель на ходу, держа в руке гальку как драгоценный камень.
Он начал рассказывать ей про жизнь свою в Сен-Реми, Авиньоне и Монпелье. Правда, он делился с ней только светлыми воспоминаниями, умолчав о мрачных сторонах своей жизни, поскольку считал большим преступлением рассказывать о том, что тяготило бы ее. А затем она поинтересовалась о том, где его мать и остальная семья.
— Мадлен уже умерла, — ответил он и вспомнил о том, как получил в Ажане в прошлом году известие о ее кончине. Прошли месяцы с тех пор. И не он, а другие люди поставили ей в Провансе надгробие.
— Но думаю, что, несмотря на все, она жила полной жизнью, — продолжал он, — и со смирением погрузилась в вечный сон…
— Все мы когда-нибудь умрем и отдохнем, в том ничего плохого нет, совсем ничего плохого, — попыталась она его утешить. — Но ты же врач, и тебе-то это известно!
И ее рука скользнула к его руке. На сей раз это не было мгновенным прикосновением — она крепко держала его руку.
Рука в руке вернулись они вечером в Ажан.
— Мы скоро увидимся? — спросил он под аркой ворот торгового двора.
— Я этого очень хочу! До завтра, — ответила она.
В эту ночь, глядя на звезды, он в искрах небосвода снова и снова видел ее лицо. Ее лучистые глаза.
* * *
В марте 1537 года состоялась их встреча, а уже летом следующего года Мишель повел молодую женщину к алтарю. Ее семью он тоже пригласил на церемонию.
В душе же Нострадамус соединялся со своей невестой под знаком Адонаи.
Скалигер предоставил молодоженам в распоряжение свой дом в Лавеланете.
В тридцать пять лет Нострадамус вернулся в Монсегюр. Сразу же в день приезда он повел свой Горний лучик к крепости.
На этот раз к разрушенной катарской крепости они пришли в белых платьях — не как завоеватели. Во всяком случае, так думал Мишель, когда в обществе лучистоглазой жены поднимался все выше и выше. В живительном воздухе плавал аромат хвои, а вверху, над разрушенными зубцами стен, стремительно штопая небо, проносились ласточки. Как тогда у Гаронны, врач и его молодая жена остаток пути шли, взявшись за руки. Мишель показал Горнему лучику место, где пять лет назад познакомился со Скалигером.
— Это тоже случилось у ворот, — улыбаясь, сказала она. — Видно, тебе так на роду написано. — Она прижалась к нему, привстав на цыпочки. — Ты знаешь… Под каменным сводом в Ажане, где ты меня спросил…
— И ты ответила мне так чудесно, — Мишель нежно поцеловал ее.
Его сердце снова обволокло волшебным жаром, ощущением счастья и беспамятства. Он повел ее через своды портала. С нею вместе Мишелю хотелось взобраться на самую высшую точку развалин. Так шли они над пропастью, солнце и благоухающий ветер ласкали их кожу.
Но вдруг они очутились в темноте.
Нострадамусу даже показалось, что он почувствовал удар тяжелого ядра. Его душа скорчилась — страх пришел неожиданно. Из горла готов был вырваться крик. Но через несколько шагов они оба вышли на свет. Мишель еле держался на ногах.
— Что с тобой? — словно из далекой дали услышал он голос Горнего лучика. — На тебе лица нет!
— Пустяки, — ответил он и в тот же момент окончательно вернулся к жизни, стоя рядом с женой. — Я только оступился. Представляешь, если бы здесь, наверху, я растянул себе ногу!
— Я бы отнесла тебя назад. Я бы смогла это сделать, — ответила она.
— Не сомневаюсь, — кивнул Нострадамус, голос которого вновь звучал спокойно и ласково.
Они вошли во двор замка, вскарабкались к западной боковой башне и взглянули на восточную башню, разрушенную еще раньше. «Свет и тень, добро и зло, жизнь и смерть», — подумал Мишель. Но в этот день они с Горним лучиком удержали только свет, добро и жизнь. Высоко над миром Нострадамус посадил себе на колени восхитительную супругу. На его чреслах она стала раскачиваться — вверх и вниз, вверх и вниз, как на танцующих качелях. И когда он наконец вонзился в нее, души и тела взрывом унесло к солнцу. Это была их настоящая свадьба. Не в сумраке христианской церкви, но рядом со Святым Граалем совершили они подлинное таинство.
В следующие недели эта близость все больше и больше опьяняла их. И это повторялось каждый раз по-новому. Они оба открыли для себя совершенно новую жизнь: их любовь, так необычно начавшаяся в таинственной глубине, обретала берега.
В сентябре 1538 года, на второй день месяца, на стыке лета и осени, Горний лучик призналась своему любимому, что ждет ребенка. Безмерно счастливый Мишель обещал ей и себе быть самым лучшим на Земле отцом. И рассказал своей лучистоглазой любимой о мужчинах, когда-то оберегавших его детство, — о Пьере де Нотрдаме и Жоне-лекаре.
* * *
В мае 1539 года у Нострадамуса родился сын. Произошло это, когда конкистадор Мартинес де Ирала обосновался за Атлантикой, чтобы завоевать земли Ла-Платы.
Конечно, младенец увидел свет не под крышей дома Скалигера, но в Ажане, где жена Мишеля разрешилась от бремени. Благодаря помощи катара Мишель и его жена уже вскоре после возвращения из Лавеланета переехали в свои собственный дом, располагавшийся неподалеку от дома Скалигера. Там на двери висел даже жезл Эскулапа. Нострадамус слышал металлическое позвякивание жезла, обвитого змеей, сделанной из тонкой металлической пружины, когда взбирался по лестничке на чердак. Как и у Скалигера, здесь тоже был четырехугольный люк. Тогда в первый раз, глядя на звезды, он пережил стремительный полет в десятизвучие. Теперь Мишель пробрался на свой чердак, чтобы узнать, если это окажется возможным, будущее своего сына.
Он торопился, взбираясь по лестнице, но едва он преодолел семь или восемь ступенек, как ноги налились, казалось, свинцом; на следующей ступеньке он почувствовал необъяснимую тяжесть во всем теле. Нострадамус сделал еще шаг, преодолевая невидимое сопротивление. И когда он понял, что стоит на десятой ступеньке, а не на какой-нибудь другой, и внезапно застыл, пораженный грохотом небесной мироколицы над ним.
Он с трудом дышал, пот катил градом, подгибались колени; сломанными ногтями он вцепился в перила — ничего не мог с собой поделать. Совершенно непроницаемо-черным казался чердак. Все мощнее становились удары — тяжеловесные, как планеты. Вдруг он осознал, что в эту ночь для него перекрыты все ходы и выходы. И, поняв это, он бросился вниз, миновал десять ступенек, и только в прихожей тяжесть отпустила его.
«Юлий! — подумал он. — Вот кто должен знать причину! Надо идти к нему!»
Он вышел на улицу и, хотя до дома Скалигера было шагов тридцать, по дороге изрядно запыхался и тяжело дышал. Скалигер — он тоже недавно отошел от кровати роженицы, так как вместе с Мишелем помогал акушерке принимать роды, — стремительно распахнул дверь.
Нострадамус осушил предложенный бокал и с жадной торопливостью рассказал, заикаясь, о том, что произошло, после чего умоляюще посмотрел на старшего друга.
— Почему именно сегодня? — выдохнул он. — Почему в эту ночь… когда мой сын?!
Юлий молчал. Глубокие морщины, которых Мишель никогда не замечал у него, внезапно исказили лицо.
— Я что, эгоист? — простонал Мишель. — И поэтому мне отказано?!
Скалигер по-прежнему оставался неподвижен. Казалось, на сердце у него лежит камень. Прошло много времени, прежде чем молчавший катар вышел из оцепенения.