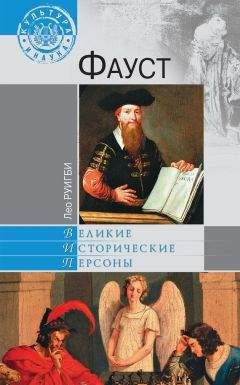Юлий молчал. Глубокие морщины, которых Мишель никогда не замечал у него, внезапно исказили лицо.
— Я что, эгоист? — простонал Мишель. — И поэтому мне отказано?!
Скалигер по-прежнему оставался неподвижен. Казалось, на сердце у него лежит камень. Прошло много времени, прежде чем молчавший катар вышел из оцепенения.
— Что бы ты хотел узнать, заглянув в будущее? — спросил он сдавленным голосом. — Что бы ты изменил этим в жизни, начало и конец которой предопределены? — Он наклонился, схватил руку Мишеля и до боли сжал ее. — Да, ты эгоист! Ты хотел использовать свой дар для цели, к которой он непригоден. Учись, друг мой! — Он ослабил хватку, осушил бокал, как только что сделал это Нострадамус, и добавил: — А теперь ступай! Лучше, если мы не будем говорить о том, что сегодня с тобой произошло. Ступай, Мишель! Ты нужен жене и ребенку! Плохо, если они обнаружат твое отсутствие в доме.
— Да! — Нострадамус поднялся. — Я и сам понял это, — и он смущенно, боком направился к двери.
Оставшись один, Юлий Цезарь де л'Эскаль горько усмехнулся.
— Ничегошеньки-то ты не понял, — прошептал он. — И это благодаря высшей милости, снизошедшей на тебя, мой бедный, бедный друг… Адонаи милосерд и потому не снял раньше времени покрова с того, что должно произойти…
* * *
Загадкой оставалось для Мишеля то, что знал Скалигер.
Нострадамус каждый день посещал больных. Пешком, если пациент жил в Ажане, в седле, если его вызывали за город. Теперь он реже бодрствовал ночами. Какой-то неясный страх перед своим даром, имевшим два лица, как у мифического Януса, останавливал его.
Младенец подрастал. Весной 1540 года без посторонней помощи он начал держаться на ногах, а чуть позже уже сделал первые шаги. А в это время его мать носила под сердцем второго ребенка. Девочка родилась в ночь на 1541 год, прежде чем турки захватили Буду, а Писарро был убит вероломным ударом кинжала по ту сторону Атлантики.
Тем не менее в городе на Гаронне жизнь протекала мирно. Мишелем все больше овладевало чувство душевного покоя, когда он вдыхал запах насиженного гнезда. Ему стали доступны большеглазая любовь детей и симпатия младенца. Совместная жизнь с любимой женой была исполнена нежного тепла. Однако наступивший вскоре 1542 год разрушил все это. Лапа Змея разорвала мир, оказавшийся, как всегда, призрачным. Злой рок уже и раньше заявлял о себе.
Император Карл V, все чаще получавший удары от Реформации и потому особенно буйствовавший во внешней политике, в четвертый раз напал на Францию и разгромил войска Франциска I. Более вероломно и жестоко в том же году проявил себя папа Павел III. Из истинно католической любви к ближнему он усилил Инквизицию там, где ему была дана власть от Молоха. В Италии, Южной Германии, Австрии, Испании, Португалии и Франции снова оказались переполненными тюрьмы. Начались пытки и потрошение человеческих душ. Снова взметнулись к небу факелы костров, на которых обугливалась и с треском рушилась пылающим столбом человеческая плоть. Снова были вздернуты на виселицы и распяты невинные жертвы ради сохранения папской власти. Из своей роскошной могилы по ту сторону Пиренеев дерзко восстал треклятый Торквемада.
Но этого все еще было недостаточно: в том же 1542 году грянула беда, невидимкой пришедшая из Нового Света. После того как конкистадоры, моряки, искатели золота и убийцы занесли в Европу сифилис, они подарили Старому Свету новую заразу, безымянную и тем более страшную по своей смертоносной силе.
* * *
Зараза молниеносно распространилась от Жиронды до Ажана и затем вдоль речных портов — меньше чем за неделю.
Мишель де Нотрдам как будто был отброшен в годы чумы, когда толпы бичевателей хлестали себя ремнями. Он, Скалигер и другие врачи оказались бессильными перед неизвестной болезнью (с рвотой, общей вялостью, набухшими железами, опухолями в горле и кажущимися безобидными мелкими налетами сыпи на слизистой оболочке зева). В то время как врачи отчаянно листали медицинские книги, выискивали у Галена и Гиппократа намеки на неизвестную болезнь, горячка между Атлантикой и Севенной становилась все страшнее. Люди толпами, в паническом страхе, искали спасения в храмах, устремлялись нагие по улицам. Клир еще больше подхлестывал общее безумие: с церковных кафедр, с колодезных парапетов и даже с висельных эшафотов попы с проклятьями и бранью обрушивались на несчастных безумцев, объясняя, что Господь карает их за грех, поелику дьявол в облике Реформации овладел Европой.
Нострадамус, Скалигер и остальные медики оказались бессильны. Им ничего не оставалось делать, как только сострадать.
В то время как окружение Мишеля буйствовало или страдало, он пытался найти опору в собственной душе. Ему придавало силы то, что у него все еще был родной дом, любимая жена. Рядом со своими коллегами, помогавшими по восемнадцать — двадцать часов в сутки, он не переставал заботиться о тех, кто верил ему больше, чем остальным. Глубоко встревоженный массовым заболеванием, он снова и снова обследовал сына и дочку, заставлял жену окуривать дом. Свой страх он считал неоправданным и потому должен был сказать себе, что, вопреки всему — ВОПРЕКИ ВСЕМУ, — не все еще потеряно. После чего продолжал работу и оставался невозмутимым среди общего безумия и сплошной человеческой боли.
Мишель слышал, как испускают последний свой вздох дети. Они умирали в агонии. Он видел, как заканчивали жизнь старики, у которых из-за больных ног появлялись пролежни. Зараза захватила теперь всех, от мала до велика, и врачи не находили средств против нее.
Скалигер только догадывался, что опасность заразиться особенно велика там, где люди живут скученно или собираются толпами, где они дышат или брызжут слюной в лицо соседа. Именно в таких толпах смерть не знает предела. Но если медики предупреждали об этом, если они пытались упрашивать безумцев, то ничего не пожинали, кроме вражды и угроз. Да и кроме того, поднимала голову Инквизиция: на жутком зловонном болоте, вопреки разуму, мощно расцвело роковое наследство Торквемады.
Так что врачи воевали еще и с этим врагом. Прошло лето 1542 года, и наступила осень. В тот день, когда под влажным ветром увядшая листва слетала на пожухлую траву, Нострадамус вернулся домой. Голова его раскалывалась от боли. Ступив на порог дома, он вдруг почувствовал сладковато-затхлый запах.
Это был тот самый запах, который Мишель уже тысячу раз слышал в других домах и больницах. Этот запах сопровождал смертельную заразу. Мишель закричал, потом схватил сына на руки, открыл ему рот и в глубине нёба увидел красноватый налет.
— Нет! — задохнулся он. — Не может быть! Это свеча меня обманула. Всевышний не допустит этого! Только не первенца, Господи!
Но прочитав в глазах жены отчаяние и приговор, он бросился из комнаты, поднялся на чердак. Семь, восемь, девять, десять! Им сразу овладело оцепенение, то самое, которое он испытал в ночь рождения сына. Те же самые тиски сдавили ему тело и душу. Мелькнуло лицо Скалигера. Он услышал какой-то звук, похожий на шепот: «Ничегошеньки ты не понял. Это великая милость, снизошедшая на тебя, мой бедный, бедный друг… что Адонаи так милосерд и не снял раньше времени покрова…»
С последними словами, прозвучавшими из прошлого, упали оковы. Через небольшой люк мысль Нострадамуса устремилась во Вселенную.
Резко и оглушающе было десятизвучие. Ледяной холод пробирал до костей. Три умоляющие пары глаз, как ему показалось, узнал он в орбитах планет, но, прежде чем найти фокус, который, возможно, дал бы ему ответ, Мишель бросился к сыну, метавшемуся в лихорадке; все тельце ребенка было мокрым от пота. Лицо жены было искажено ужасом. В корчах извивалась в кроватке и дочка.
От отчаяния Мишель потерял голову. Прошли дни и ночи. Иногда он понимал, что рядом с ним его Горний лучик, но затем лучик снова ускользал куда-то в небытие.
Единственное, что он воспринимал реально, так это сладковатый запах. Наконец он все-таки пришел в себя, но только для того, чтобы различить пару страдающих глаз и почувствовать неподвижность первенца.
За сыном последовала дочка. Едва Мишель набросил суконный платок на истаявшее тельце, упала без сил в лихорадочном жару и его жена. Началась отчаянная борьба — теперь только за нее. И снова настигло его поражение, предвещанное в звездной стуже планет. Хриплый вздох прозвучал как последнее «ТЫ!», так ему показалось. Затем простерлось одно лишь небытие.
* * *
Прошли часы или дни, пока Нострадамус очнулся. Он сам положил в гробы тела детей и жены, отказавшись от помощи Скалигера. Еле держась на ногах, дошел до кладбища, волоча за собой тележку с гробами, вырыл три ямы. Подравнял могильные холмы. И явились ему эти могилы как тройной вал, воздвигнутый им самим между ним и смыслом жизни. Из его горла вырвался мучительный крик, похожий на смех.