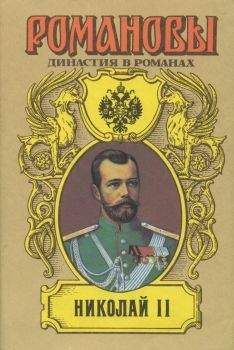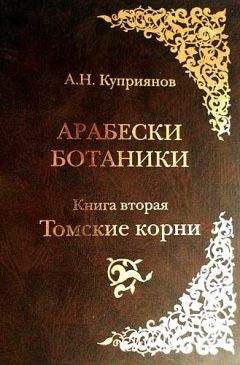– Панский выезд, як Бога кохам! – польский коннозаводчик невольно залюбовался.
Вдруг его густые брови насупились.
– А вот нам, полякам, ваша русская администрация запрещает национальный выезд цугом.
Он судорожно схватился за седеющий подусник.
– Поверьте, – вырвалось у Репенина, – я сам этим возмущаюсь. Всякие мелочные придирки на окраинах – прямой ущерб нашей великодержавности.
Жандарм счёл долгом осторожно вмешаться:
– В инородческом вопросе приходится руководствоваться сложнейшими, будьте уверены, соображениями.
– По-моему, нисколько! – отрезал Репенин. – Все верноподданные равны перед престолом. Среди моих гусар есть и татары, и молдаване, и евреи. А в бою кровь прольём одинаково: за царя и отечество.
– Э, проше пана, едный есть спосуб сё сгадать, – перешёл от волнения помещик на родной язык и с пламенным подъёмом принялся доказывать необходимость для Польши полной венгерской автономии.[216]
– А в этом мы резко расходимся, – перебил его Репенин. – Я, конечно, за великую и неделимую империю.
Вспыливший поляк волком на него глядел. Репенин добродушно протянул ему руку:
– Sans rancune, et a mardi[217].
У коляски стояла в темноте знакомая фигура красавца вахмистра.
– Ты ещё здесь, Трунов, – окликнул его Репенин. – Садись ко мне, я тебя подвезу.
Троешник шевельнул вожжами. Коренник рванулся и вынес коляску широкой рысью.
Плавно покачиваясь на глубоких брейтигамовских рессорах, Репенин начал понемногу разбираться в мыслях.
– Великая и неделимая Россия, – повторил он себе вслух. – Да, этим, кажется, всё сказано. А ты что скажешь, Трунов? – спросил он вахмистра.
Но тут же в мыслях замелькал опять образ обольстительной смуглой женщины с задорным смехом… В самом деле, почему бы нет?.. И всколыхнулось всё чаще набегавшее чувство острого раздражения против жены.
На вопрос, брошенный командиром, вахмистр ответить сразу не сумел. Он весь побагровел от натуги. Даже прокашлялся для прояснения мыслей. Наконец гудящим басом доложил решительно:
– Так точно, ваше сиятельство; остальное, надо думать, приложится.
Задумавшийся Репенин не разобрал, в чём дело.
«Правильно! – мысленно одобрил он уверенность вахмистра. – Всё равно: не эта, так другая…»
Коляска Репенина скрылась из виду. Жандарм взглянул на часы, заторопился и предложил Адашеву:
– Разрешите проводить вас на вокзал?
Рельсовые пути пришлось перебежать. Слева, саженях в десяти, надвигались огненные шары паровоза. Со стороны Эйдкунена подходил к Вержболову парижский норд-экспресс.
На платформу высыпали пассажиры. В поезде, как всегда, было много петербуржцев.
Адашев сейчас же заметил ряд знакомых. Ехали и престарелая вдова министра, страстная картёжница княгиня Lison; и блестящая первая балерина Мариинского театра, за которой ухаживало разом несколько великих князей[218]; и прогремевший модный адвокат Кисляков, один из влиятельных вожаков оппозиции в Государственной думе; и вездесущий в петербургском большом свете пятидесятилетний юноша Сашок Ведрин, известный своим шутовством и словечками.
Ехали также видный банковский деятель Соковников, проводивший обыкновенно осень в Биаррице, и свежеиспечённый миллионер, удачливый биржевик Потроховский. Как большинство богатых евреев, он постоянно лечился из опасения, что может заболеть, и каждое лето отправлялся куда-нибудь за границу пить воды. Дружившие дельцы познакомились по дороге с двумя хорошенькими актрисами-парижанками, приглашёнными на императорскую Михайловскую сцену[219].
Они никогда ещё не выезжали за пределы Франции и терялись в непривычной обстановке. Особенно тревожили паспорта и досмотр на таможне.
Толпа бородатых носильщиков в белых фартуках и бляхах выгружала гору ручного багажа.
Упитанный, одетый по последней моде Соковников с покровительственным видом успокаивал взволнованных француженок и плотоядно скалил широкие челюсти.
– Ша!.. ша!.. красотки, – в свою очередь хитро подмигивал носатый прыщавый Потроховский, складывая густые брови вопросительным знаком; брюшко его подпрыгивало от беззвучного смешка.
Увидев жандармского подполковника, оба дельца бросились к нему по-приятельски, с объятиями и поцелуями. Соковников подвёл его к актрисам:
– Удружите, почтеннейший, этим душкам.
– Они, знаете, робеют, – поддержал Потроховский, доверительно понизив голос. – У них, конечно, много там всяких тряпок…
Подполковник не заставил себя уламывать:
– Для вас, будьте уверены, всё сейчас уладим.
Он многозначительно кивнул седобородому вахмистру с широкими шевронами[220] на рукаве, медалями на шее и пачкой паспортов в руках. Престарелый опытный служака стоял у единственного выхода с платформы и сквозь очки подозрительно всматривался в каждого незнакомого пассажира. Послушно откозыряв начальству, он отечески ухмыльнулся француженкам, как бы показывая, что вопрос исчерпан.
– Вуаля коман![221] – пояснил актрисам Потроховский, победоносно увлекая одну из них в буфет. Другая не унималась и всё наседала на Соковникова:
– Mais demandez-lui done quels sont les principaux articles interdits a la frontiere russe![222]
Проходивший мимо Сашок Ведрин остановился:
– En premier lieu le pucelage, ma toute belle[223].
Острослов одним щелчком вскинул в глаз монокль на шнурочке. Его лицо умного орангутанга сохранило невозмутимую серьёзность.
– Vieux farceur[224], – с досадой огрызнулась знавшая его давно француженка.
Подполковник между тем угодливо рассыпался перед балериной.
– Новое дело, – встретила его нетерпеливая танцовщица, капризно перекашивая губы, и жеманно протянула: – Я жду, а ему плевать; шушукается с биржевыми тузами.
– Благодетельница! – запротестовал жандарм. – Вы знаете, я к вам всегда молитвенно…
Сложив ладони лодочкой, он подобострастно приник к её руке.
Сашок в дверях вокзала столкнулся неожиданно с Адашевым. Он всплеснул руками:
– Как вы сюда попали, homme d'atours?[225]
Живые обезьяньи глазки загорелись хищным любопытством.
Они направились к буфету. Проход был запружен артелью витебских землекопов в сермягах и лаптях. Пробираясь в третий класс с лопатами, мешками и котомками, они раскуривали по дороге самокрутки. В воздухе висели клубы едкого махорочного дыма и терпкое зловоние пота, болотной тины и навоза.
Сашок с гримасой отшатнулся:
– Grand Dieu![226] И русский дух, и дым отечества, les deux a la fois…[227]
В буфете первого класса, вокруг столов, украшенных мельхиоровыми вёдрами с пыльной искусственной зеленью, почти уже не было свободных мест. Возвращаясь из-за границы, каждый русский по традиции набрасывался здесь на суточные щи, пирожки, огурцы и рябчиков с брусникой.
Одутловатая, болезненная княгиня Lison не отставала от других, благосклонно прислушиваясь к Кислякову, а тот, перегнувшись к ней, журчал весенним ручейком.
– Какими судьбами? – почти без удивления встретила она подошедшего Адашева. – Вы не знакомы: знаменитый наш московский присяжный… – княгиня сконфуженно замялась на мгновение, –…присяжный заседатель! – вспомнила она и обрадовалась. – C'est un vrai charmeur…[228] – конфиденциально поведала она Адашеву. И перегнулась снова к Кислякову: – Je suis toute oreilles…[229]
– Где же милая графиня? – затревожился Сашок, оглядываясь по сторонам. – Ah, la voici enfin..[230] Мы здесь! – замахал он появившейся в дверях Софи Репениной, которую сопровождал почтительно изогнутый жандармский подполковник.
Узнав её, Адашев озадаченно замялся. Софи шла той красивой плавной поступью, которую утрачивает женщина, воспитанная на резких спортах[231]. Будь на её плече полный сосуд, ни капли, казалось, не пролилось бы. Так ходили ветхозаветная Рахиль и дочери классической Эллады.
– Со мной целое приключение, – объявила она спутникам, рассеянно здороваясь с Адашевым.
Вид у неё был смущённый и растерянный.
– Я, право, чуть было не расплакалась, – добавила она с присущими ей не совсем русскими интонациями. – И если бы не добрейший полковник…
– Мудрой прозорливостью державного основателя, – угодливо вставил жандарм, – отдельный корпус жандармов именно и предназначался утирать слёзы.
В его руках был свёрнутый узлом платок, который он держал с бережностью естествоиспытателя, поймавшего редчайшую бабочку.
– Bravo! – уронил Сашок тоном банкомёта, которому понтёр[232] открывает девятку, и нахохлился. Он давно привык считать себя как бы монополистом на остроумие.