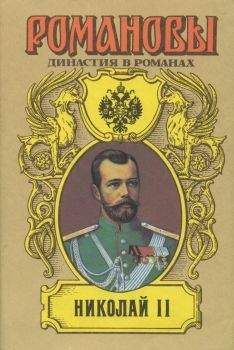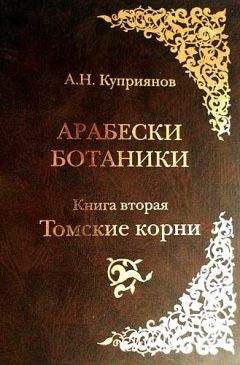– Как вы всё знаете! – невольно вырвалось у неё. – Слушая вас, за себя стыдно.
До сих пор Париж был для неё только калейдоскопом магазинов, ресторанов и театров, каким он представлялся большинству тогдашних богатых праздных русских.
В двери показался жирный обер-кондуктор с медалями, в пенсне на цепочке, с портфелем и щипцами для прострижки билетов. Затем постучались горничные и доложили, что всё готово.
Софи нехотя ушла к себе. Было так обидно, что Адашева прервали… Хорошо; что завтра они ещё полдня в дороге!
Почти институтская восторженность в её прощальном взгляде не ускользнула от флигель-адъютанта. Приятно шевельнулось мужское самодовольство.
«Прелестная женщина! – решил он, оставшись один. – И вся в контрастах. Чёрные иконописные брови, а волосы светлые, как у скандинавской русалки; шаловливые жизнерадостные искорки в карих зрачках и точно скрытая грусть в отчётливом разрезе губ… Счастливец!» – позавидовал он Репенину.
«Но разве можно её забрасывать? – Он задумчиво повёл по привычке плечом. – Так Серёжа потеряет её и сам будет виноват!»
Флигель-адъютанту давно хотелось пить. Несмотря на поздний час, он уверенно направился в вагон-ресторан.
С самого отхода поезда между столиками метался потный лакей-татарин и хлопал пробками.
За одним из них прочно уселась компания. Соковников изготовлял для Кислякова и Потроховского сложный крюшон собственного изобретения. Длинной ложкой он солидно разбалтывал смесь ликёров в большом стеклянном жбане.
– Однако!.. – воскликнул, подсаживаясь к ним, Сашок и недоверчиво, сквозь монокль, стал наблюдать, с какой бережностью банкир доливает жбан бутылкой шампанского.
Соковников прищёлкнул языком:
– Вы только попробуйте.
– Он у нас, знаете, мастер, – заверил Потроховский. Банкир налил всем по стопочке.
Сашок глотнул и ужаснулся:
– Динамит!..
– А по-моему, напиток с большим настроением, – одобрил Кисляков.
– С изюминкой!.. – игриво подхватил Сашок. Последовал один из тех сомнительных анекдотов, которыми обычно тешится мужская компания за вином.
Острослов был в ударе. Раздался дружный взрыв смеха. Соковников залился шумным безудержным хохотом.
– А теперь, – сказал Сашок, вставая, – нет, говорят, того приятного общества…
Остальные запротестовали:
– Уже спать?..
Сашок кивнул на заспанного татарина, перебиравшего пустые бутылки в лыковой корзине:
– Да всё равно нас отсюда скоро выставят.
Соковников преградил ему дорогу с бесцеремонной настойчивостью:
– Помилуйте! Мы, слава Богу, теперь в России. Сядем-ка да побеседуем…
– Ну уж если побеседуем, того и гляди: сядем! – с притворной опаской перебил Сашок.
– И вы думаете, нет? – полусерьёзно вмешался Потроховский, выпячивая нижнюю губу; от выпитого крюшона он чувствовал потребность излить душу. – Я, знаете, самый честный еврей. И плачу не пустяки, а первую гильдию[248]. А вот немножко проехали Вержболово, таки я уже боюсь.
«C'est un numero»[249], – отметил себе Сашок, оглядывая биржевика как любопытный бытовой материал.
Ему бросились в глаза его характерные уши. Посаженные наискось, заострённые кверху, они были совершенно таковы, как принято изображать у сатаны и прочей нечисти.
– Вы не думайте: я настоящий патриот. Я, знаете, весь капитал вложил в Россию!.. – наступательно затрещал Потроховский, размахивая руками.
– Разобьёте!..
Сашок подхватил стакан, который биржевик чуть было не смахнул рукавом.
Но тот продолжал надсаживаться:
- И разве хорошо, что режим хочет удавить моё внутреннее я?..
В его голосе слышалась горькая обида.
Соковников с мрачной сосредоточенностью подлил себе крюшону:
– Правительство всех теперь душит.
– Столыпинский галстук[250]! – пожал плечами Кисляков с невинным видом комнатной собачки, разжигающей исподтишка страсти нескольких соперников-барбосов.
– Засилье чиновников добром не кончится, – зарычал Соковников. – России надо: царь и народ. Остальное всё к чёрту. Никаких средостений…
Сашок усмехнулся:
– Charmant, mais le средостение, ma foi, c'est nous[251].
Завязалась оживлённая беседа… Перешли на землю, свободу печати и прочие наболевшие вопросы. Посыпались нападки на министров…
Кисляков ликовал: Столыпина громили с умилительным единодушием.
Но слово за слово, как полагается, повздорили.
Когда входил Адашев, встревоженный Кисляков уже всячески усовещивал рассвирепевшего Соковникова.
– Погоди, жидовская морда!.. – кричал подвыпивший банкир Потроховскому, угрожающе потрясая волосатым кулаком.
Возле стола лакей торопливо обтирал салфеткой облитый густыми ликёрами ковёр.
Сашок старался успокоить перетрухнувшего и разобиженного биржевика:
– Бросьте!.. Мало ли по пьяному делу…
А тот плаксиво сетовал:
– И почему это, знаете, всегда: как русский человек немножечко напьётся, так у него сейчас же – бей жидов!
Держась ещё за ручку двери, Адашев остановился в нерешительности: не лучше ли повернуть назад?
Но, увидя флигель-адъютанта, Потроховский метнулся прямо к нему:
– Будьте вы свидетелем!
– Ведь я не имею, собственно, никакого понятия, в чём дело, – заявил Адашев тоном человека, желающего сразу отмежеваться от всего предшествовавшего.
– Вы такой интеллигентный человек! – вцепился в него биржевик. – Вот что вы можете сказать о еврейских погромах?
Адашеву раньше как-то не приходилось над этим вопросом задумываться. Он всегда казался ему чем-то скучным и запутанным. Флигель-адъютант решил отделаться первым пришедшим в голову соображением.
– Всякие погромы, мне кажется, рисуют прежде всего жуткую темноту и дикость нравов в народной толще.
– А провокация погромов полицией? – ехидно заметил Кисляков.
Адашев брезгливо повёл плечом:
– Да эта полиция опять-таки отзвук тех же диких народных потёмок. В безграмотной стране за двадцать пять рублей в месяц от городового культурности и требовать не приходится.
Он заказал бутылку нарзана и сел.
– А я могу теперь вам сделать один нескромный вопрос? – пристал к нему опять Потроховский с озабоченным видом. – Вы скажите откровенно: как сам государь смотрит на еврейский вопрос?
Флигель-адъютант крайне щепетильно относился ко всему, что касалось царя. Глотая медленно нарзан, он силился припомнить… Нет, положительно ни разу государь при нём словом не обмолвился насчёт евреев…
В подобных случаях большинство царедворцев склонно прибегать к самой беззастенчивой импровизации. Адашев был исключением: он предпочёл открыто признать своё полное неведение.
Его откровенный ответ был истолкован Потроховским по-своему:
– Ну, вы не хочете говорить прямо. Значит, вероятно, плохо.
Он покачал головой и удручённо опустил губу.
Сашок, сидевший рядом с Адашевым, в свою очередь сделал гримасу.
– Entre nous, – сказал он ему вполголоса, – une indifference dedaigneuse frise de pres le попустительство[252].
– C'est vous qui le dites![253] – вставил с коротким смешком подслушавший его Кисляков.
В мышиных глазках адвоката загорелось принципиальное злорадство человека, построившего всю свою карьеру на гражданской скорби.
Потроховский с пьяной слезливостью заголосил опять:
– Ой, плохо нам, плохо!..
– Чего же хуже! – злобно буркнул осоловевший было от винных паров Соковников. – Ясно, кажется, что с высоты престола вас, евреев, просто игнорируют. И правильно!
Биржевик возмутился:
– Вы говорите «игнорируют». А я таки вам не верю! Ну как это можно, в самом деле, чтобы император просто игнорировал себе семь-восемь миллионов интеллигентных и работящих подданных?
Сашок саркастически показал на них Адашеву:
– Вот и полюбуйтесь, к чему всё это привело. Слышите?.. Сыны и пасынки России!
Адашев замялся. Слова эти напомнили ему ответ Репенина жандарму: «…Перед престолом все верноподданные равны». Кто же здесь, по существу, лояльнее к своему государю: русские – Соковников, Кисляков, даже свой, казалось бы, Сашок, или этот еврей Потроховский с его ломаным комическим говором?
Спор между тем не утихал.
– Еврейский вопрос… Важное, поди, дело! Да хозяину земли русской плевать на всех евреев! – кричал Соковников.
– А я говорю, – захлёбывался Потроховский, – быть не может для царя, знаете, вопрос важнее, чем дать равноправие евреям.
Адашев улыбнулся.
– Парадокс не из банальных! – бросил он Сашку, стараясь отделаться шуткой, чтоб отступить в порядке.
Острослов сморгнул монокль:
– C'est beaucoup moins paradoxal qu'a premiere vue. Pensez un peu avec le равноправие… Mais ce seraient encore eux, parbleu, les defenseurs les plus acharnes du regime![254]