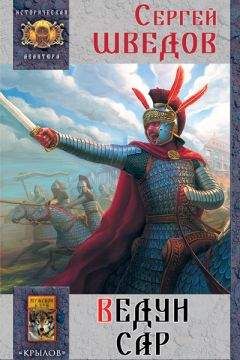Гааз поднял глаза, влажные от слез. Он прикусывал губы, не в силах говорить, но пытался улыбаться, благодарно кивал, кланялся.
Филарет уехал.
Приходили и вовсе незнакомые люди. Нарядные дамы, пахнущие духами, утешали дорогого, милого Федора Петровича по-французски. Мастеровые в замусоленных рубахах, крестьяне в лаптях, не переступая порог, кланялись низко, рукой касаясь пола:
— Прощай, батюшка Федор Петрович, прощай и прости нас. Будь и там, перед Господом, заступником за нас, несчастных и сирых.
Писательница Елизавета Драшусова навещала его ежедневно. Она вспоминала:
«Несмотря на болезнь, благообразное старческое лицо его выражало необыкновенную доброту и приветливость, он не только не жаловался на страдания, но вообще ни слова не говорил о себе, ни о своей болезни, а непрестанно занимался своими бедными, больными, заключенными — делал распоряжения, как человек, который готовится в далекий путь, чтобы остающимся после него было как можно лучше».
Он все добавлял новые наказы и просьбы к завещанию, которое заполнило много страниц.
«Поскольку я признан совершенно неимущим, мои родственники не могут предъявлять никаких притязаний на оставшееся от меня имущество. Точно так же мои кредиторы, после того как они разделят между собой то, что будет присуждено им судом, не будут притязать на мое наследство. Из этого я осмеливаюсь заключить, что власти не встретят затруднений в исполнении моей покорнейшей просьбы не опечатывать могущее остаться от меня имущество, но, согласно моему искреннему желанию и моей просьбе, передать его моему старому верному другу, действительному статскому советнику Андрею Ивановичу Полю. Его же прошу о согласии быть моим душеприказчиком с помощью наших коллег и друзей Павла Яковлевича Владимирова, Федора Михайловича Елецкого, Василия Филипповича Со-бакинского, Христиана Федоровича Поля, Льва Григорьевича Гофмана, Ивана Алексеевича Нечаева, а также наших старых друзей Ивана Федоровича Померанцева и Василия Ивановича Розенштрауха. Я убежден, что это не составит ему особого труда. Я предоставляю Андрею Ивановичу (Полю), безо всякого отчета, определить все, что должно быть сделано. Я прошу Андрея Ивановича каждому, кто захочет сохранить память обо мне, подарить что-нибудь. Все книги назидательного содержания и подходящие для библиотеки нашего храма я дарю этой библиотеке, а равно и фортепиано, и латинские песни, которые у меня находятся. Оба тома Бландшардова Лексикона пусть пойдут в контору Полицейской больницы для бесприютных больных, по усмотрению Андрея Ивановича также и некоторые медицинские книги, так, чтобы создать для больницы небольшую врачебную библиотеку. Из остальных медицинских книг, сколько Андрей Иванович сочтет нужным, подарить Николаю Агапитовичу Норшину. Все остальные книги и вещи — продать и вырученные деньги разделить на две части. Одну часть Андрей Иванович разделит между бедняками нашего прихода. Другую часть должен получить мой друг Павел Яковлевич Владимиров для раздачи в нашей больнице, как он уже и раньше делал в великое мне утешение и благодарность.
Если после моей смерти останутся наличные деньги, то я желаю, чтобы все имеющиеся непереплетенные „Азбуки благонравия“ и все картоны „Азбуки“ были переплетены и хранились для постепенной продажи или бесплатной раздачи, как Павел Яковлевич сочтет за лучшее. Драгоценнейшего Алексея Николаевича Бахметьева я покорнейше прошу при случае присмотреть за достойным сожаления Филиппом Андриановичем. Первое благодеяние, оказанное ему Алексеем Николаевичем, стало причиной всему, что я мог сделать после него. Очевидно, само Провидение передало его в наши с ним руки.
На моем столе стоит маленький ларчик, в нем чернила, перо и реликвии святого Франциска Сальского. Этот ларчик следует передать Любовь Давыдовне Боевской, которая со временем устроит так, чтобы реликвии эти хранились в католическом храме в Иркутске. В верхнем ящике комода лежат два портрета, моего батюшки и моей матушки. Я оставляю их ей же, с тем, чтобы она спокойно хранила их у себя. Отменного моего благодетеля, Николая Алексеевича Муханова, покорнейше прошу продолжать через Андрея Ивановича еще некоторое время ежемесячную выплату десяти рублей серебром неимущей добрейшей Боевской; она мне духовная дочь и сестра. Да не оскудеет для меня рука твоя, почтеннейший Николай Алексеевич!
Есть и еще несколько бедняков, которым я каждый месяц раздавал кое-что от господина Муханова: Анне Петровне Тринклер два рубля, госпоже Бессоновой — рубль, госпоже Рылеевой — рубль, бедной девушке Ирине в Набилков-ском приюте — рубль, госпоже Мелединой — рубль. Матрена с дочерьми получает рубль, что я прошу продолжать с помощью Ивана Яковлевича.
Портреты двух моих благодетелей, графа Зотова и генерала Бутурлина, я оставляю другу моему Андрею Ивановичу Полю, разделяющему мои к ним чувства любви и преданности.
Что касается картины Ван Дейка, которую почетный гражданин Федор Егорович Уваров подарил мне, когда я лежал больным, то я не в состоянии выразить чувство глубочайшей благодарности и полагаю, что этим подарком он сделал мне наиприятнейшее из всего, что могло ожидать меня в этом мире. Молю Бога, да воздаст Он сторицею Федору Егоровичу за все, что я почувствовал, приняв от него этот подарок. Прошу причт нашего храма, господина Еларова, господина Кампиона и Михаила Дормидонтовича Быковского, принять надлежащие меры, чтобы поместить эту картину в нашем храме рядом с алтарем Божией Матери. Ее следует поставить на четырехгранный мраморный цоколь, на котором должны быть начертаны слова, которые Матерь Божия сказала служителям: „Что скажет Он вам, то сделайте“ (Иоанн, гл. 2, с. 5).
Не нужно бояться расходов, чтобы сделать это как можно лучше. Мой добрый друг Андрей Иванович соберет нужные для этого деньги.
Еще два дела меня сейчас занимают: 1. Сделанное мною представление к наградам служащих больницы. К моему другу Александру Ивановичу Оверу я обращаюсь с покорнейшей просьбой попросить Ивана Васильевича Капниста, чтобы он сам занялся этим.
Впрочем, я надеюсь целиком на моего дорогого Андрея Ивановича, будучи уверен, что он найдет способ наградить всех, кто столько заботился обо мне. Очень хотелось бы мне, чтобы маленькие книжечки „Проблемы Сократа“ были бы напечатаны в память нашей дружбы с Николаем Николаевичем Бутурлиным, сыном великого моего благодетеля генерала Бутурлина. Мне думается, что эти „Рассуждения о системе Сократа“ многим были бы полезны. Еще прошу покорнейше господ Пако, Чадаева и Цурикова по-христиански принять участие в этом деле и потрудиться довести эти „Рассуждения“ до приличествующего им окончания. Господина Еларова я просил похоронить меня за счет церкви на двуконной подводе и безо всякого убранства.
Москва 21 июня 1853 года».
Шестнадцатого августа Федор Петрович в полдень уснул и не проснулся.
К выносу гроба больничный двор, переулок и прилегающую широкую Садово-Черногрязскую улицу заполнили тысячи людей. Толпы были тихие, без суеты, без давки. Преобладали простые люди — войлочные шапки, поношенные фуражки и разноцветные головные платки; косоворотки, потертые кафтаны, холщовые и кожаные фартуки, поношенные башмаки, стоптанные сапоги и лапти. Но пришли и многие москвичи других сословий: видны были цилиндры, широкополые шляпы, форменные картузы чиновников и военных, разноцветные сюртуки, нарядные платья купчих и дворянок.
Генерал-губернатор велел полицмейстеру Цинскому вызвать отряд казаков и конных жандармов на случай беспорядков.
Катафалк, запряженный парой, — так велел завещатель — медленно, осторожно покатился между расступавшимися к тротуарам густыми толпами. Многие женщины плакали навзрыд, некоторые причитали: «На кого же ты нас оставил, благодетель наш…» Мужчины снимали шапки. Все крестились. В ближней церкви печально звонили колокола. Уже два дня в нескольких церквах служили панихиды — разрешил митрополит.
Полицмейстер полковник Цинский, осадив коня, снял кивер. Он видел — сотни, тысячи людей сходили с тротуаров и присоединялись к провожавшим катафалк. Впереди шли ксендз-настоятель и причетники. Позади в толпе, которая, постепенно выравниваясь, становилась процессией, видны были темные рясы православных священников и монахов.
Есаул, шажком подъехав к полковнику, шептал:
— Так что, Ваше превосходительство, мои умельцы подсчитали, народу тысяч не менее пятнадцати, а то и более… Однако все тихо. Никаких безобразий не замечено…
Полковник приказал отвести казаков и жандармов обратно в казармы, спешился и пошел за гробом в ближних рядах, придерживая шашку, чтобы не бренчала о булыжник. Коня его вели «в поводу» стороной.
Московские, петербургские и многие губернские газеты сообщали о смерти Федора Петровича, великого доктора-человеколюбца, друга несчастных. Описывали небывалые похороны.