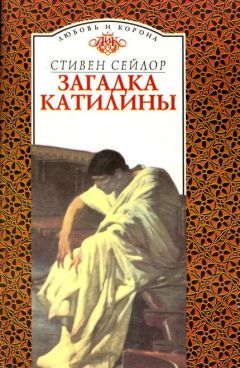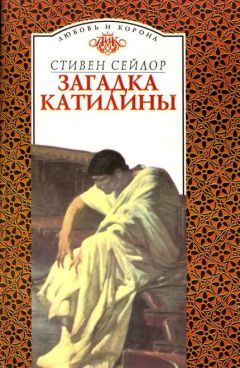Ознакомительная версия.
— Клаудилла пригласила меня нарочно к этому часу, вот выдумщица… — пожимая плечами, сказал Целий Руф.
— Vae victis![153] — насмешливо произнес Тицид. — Что ж, дорогой Руф, прелестнейшая матрона позаботилась развлечь нас.
— От жары можно взбеситься… Зайдем к Клодии, выпьем по чаше вина со льдом…
— Ну уж нет. Я не собираюсь тебе мешать.
Злорадно усмехаясь, Тицид отправился за Катуллом и долго следил за ним, пока не убедился, что веронец вошел в свое жилище на четвертом ярусе кирпичного «острова».
Дома Катулл не стал рыдать и метаться. Он развернул свиток со стихами Сафо, долго читал, хмурясь и вздыхая. Потом бродил по комнате, пил воду из кувшина, брал в руки стиль, вощеную табличку и что-то писал.
Стены накалились к вечеру, даже воздух около них мерцал и струился. В комнате было так душно, что голова звенела, дыхание затруднялось. Катулл снял тунику и лег. Он смотрел в потолок, по которому передвигался отсвет закатного солнца, проникавшего через узкое окошко под потолком. Глаза его, не отрываясь от этого отсвета, то загорались энергичной мыслью, то застилались грустью.
Он лежал, разморенный духотой и печалью, пока не загустела тьма и первая звезда не заглянула в оконце. Тогда он поднялся, выбил огня и зажег бронзовый светильник — подарок Кальва. И так сидел голый перед светильником, ужасаясь своему бесконечному одиночеству.
Во времена его согласия с Клодией, даже в дни ссор и мимолетных измен он надеялся, что так или иначе их отношения возобновятся. Его печаль и отчаянье не были такими мертвенно-покорными, безнадежными, какими ощущались теперь. Все радостное в жизни кончено для него навсегда. Он с позором изгнан из дома Клодии и из ее сердца, конечно, тоже.
Никогда больше Катулл не дотронется до ее руки, разве что за порогом смерти. Да существует ли в действительности подземная юдоль — с Хароном, перевозящим через реку забвения толпы скорбных теней, с трехголовым псом Цербером, с судьями Эаком и Радамантом, с чудовищами и химерами? Ни Сократ, ни Аристотель, ни Эпикур — величайшие мудрецы Греции — не верили в это. Может быть, в каких-то иных, неведомых еще людям сферах витают души умерших, и там только Катуллу предстоит коснуться родной души Спурия и приблизиться к гениальной Сафо.
Катулл, раздумывая, качал головой и делал угловато-резкие, непроизвольные жесты. Потом что-то припомнил, с отвращением отпрянул от чего-то неведомого и будто увидел себя со стороны: голый, взлохмаченный человек прыгает обезьяной по тесному, ограниченному кирпичной кладкой пространству, гримасничает и несвязно бормочет, воображая себя страдальцем и великим поэтом. Видеть это было настолько постыдно, что захотелось воткнуть этому самовлюбленному дураку кинжал под левый сосок.
Усилием воли Катулл отвлек себя от вполне оправданного искушения и тут заметил крошечное желтенькое насекомое, ползающее по стене. Катулл раздраженно сгонял этого прыткого жучка, клопа или мушку, — насекомое исчезало, но опять и опять появлялось, суетливо толклось, мелькало, лезло в глаза, доведя его наконец до бешенства. Огонь светильника дрожал и кружился, стены отодвигались вдаль, нагнетая бредовый ужас, а мушка все ползала и ползала перед ним.
Он понял, что надо взять себя в руки или завтра будет поздно. Порылся в сундучке, достал настой чемерицы — лекарства от ипохондрии и безумия. Чемерицу принес ему Корнифиций, который сам воспользовался ею около года назад и испытал ее благотворное действие. Разбавив настой вином, Катулл выпил его и улегся лицом вниз. Сон не приходил, но ему уже не было страшно, только глубокая тихая печаль владела им. Он закрыл глаза и предался воспоминаниям.
Это произошло с ним в тот поздний вечер, когда он бежал из дома Аттика. Вернулась его старая неизлечимая болезнь — мучительное наваждение ревности. Он глухо рыдал и хрустел зубами, представляя Клодию в объятиях Руфа. Видения их ласк становились все бесстыднее, и Катулл завыл от горя, как больной пес.
Он шел, спотыкаясь, по опустевшим улицам, гонимый изощренной пыткой, придуманной для него судьбой. Он обходил редких прохожих, прижимаясь к стенам домов, ускользал от света факелов и вопросов ночной стражи, шарахался от шепота невидимых в темноте женщин и продолжал идти через опасный, призрачный Рим.
Сам не зная каким чудом, он отыскал в пригородном поселке за Тибром убогую хижину Агамеды.
Ни один злобный разбойник не настиг его в путанице римских улиц, не удушил, не зарезал, не отобрал кошелек и дорогую накидку. Ни один пьяный верзила не оскорбил его и не ударил. Он мог бы стать добычей изуверов из тайной восточной секты и истечь кровью в каком-нибудь подвале перед их смрадным алтарем или попасть в гнусный притон одетых в женские платья распутных скопцов — безбородых жрецов Кибелы… Наконец, его могли загрызть бродячие собаки, или он сломал бы ногу, упал с моста и утонул в Тибре…
Судьба хранила его на этот раз, и он добрался благополучно.
Катулл стукнул в ветхую дверцу. Она отворилась, будто его здесь ждали, и костлявая рука Агамеды поднесла светильник к его лицу.
— Входи, — сказала Агамеда, нисколько не удивившись.
— Где женщина, которая напомнила мне… ту, которую я люблю?
— Ее можно будет найти завтра.
Катулл бросил на пол глухо звякнувший кошелек.
— Она нужна мне сейчас… — прохрипел он.
— Климена, отсчитай пять сестерциев, а остальное верни, — сказала Агамеда сестре. — Отведи его к Канидии. Скажи, что я приказала.
Катулл долго ждал в темноте. За перегородкой шептались. Потом Катулл увидел высокую тень удалявшегося мужчины. Климена зажгла плошку с маслом и захихикала:
— Вот наша Канидия… Желаю приятно провести время, мой дорогой… Да поддержит тебя Приап…
Катулл нетерпеливо топнул, старуха исчезла. Катулл сел на скамью и поднял глаза — перед ним в полутьме стояла… Клодия. Лицо почти не было различимо, но фигура в длинной белой тунике и золотистые волосы, небрежно заколотые на затылке и падавшие на плечи длинными прядями, несомненно, принадлежали прекрасной патрицианке. И все-таки перед ним стояла всего лишь проститутка Канидия.
— Ты дашь мне десять… нет, пятнадцать сестерциев? — спросила она.
Катулл привлек ее к себе и жадно гладил покатые плечи и стройную шею. Он боялся посмотреть ей в лицо.
— Погаси огонь… — сказал он.
Канидия дунула на светильник и привычным движением сбросила тунику. Потом она опустилась на колени и прижалась к нему. Пышные волосы, которые она распустила, тряхнув головой, накрыли его легким плащом, он ощутил упругость ее тела.
— Не томись…. — шептала Канидия. — Я полюблю тебя от души, я ведь добрая…
Катулл плакал от унижения, проклиная себя за то, что таким способом решил рассеять свою тоску. Ему претила продажная нежность Канидии, играющей для него роль возлюбленной; он чувствовал, как он жалок даже в глазах этой все повидавшей, немолодой проститутки. Он хотел встать, но Канидия его удержала.
— Останься, куда ты денешься ночью? — сказала она, целуя его в мокрую щеку. — Плюнь на все, дружок… Забудь свою злую гордячку… Я думаю, ты хороший человек, вот тебе и не повезло…
Когда заголубел рассвет в щелках каморки, она спросила его:
— Не спишь? — и похвалила: — Ты ретивый жеребчик. Чего еще нужно твоей милой, уж не знаю.
Катулл без отвращения глядел на ее плоское, рябое лицо. В ее хрипловатом голосе и мягких движениях было что-то неуловимо напоминающее Клодию, кроме явного сходства фигуры и роскошных волос.
— Ты любишь стихи? — неожиданно спросил Катулл.
Канидия лукаво посмотрела на него круглыми глазами: видимо, мужчины, которых она знала, никогда не задавали ей таких вопросов.
— Конечно, люблю. — Канидия засмеялась. — А ты думаешь, я только на одно и способна? Нет, дружок, я и в стихах малость разбираюсь. Но больше всего мне нравится, когда их поют. Мой отец этруск из Арреция. Этруски — народ музыкальный, у нас часто поют и играют на разных инструментах.
Наклонившись к Катуллу, Канидия вполголоса пропела песенку о моряке, уплывшем на крутобоком корабле в далекие страны, и о верной его подружке, которая ждет не дождется возвращения бравого парня. Катулл слушал с удовольствием… Отбросив последние сомнения, Канидия стала считать его славным и непритязательным малым.
— Еще мне запомнилась любовная песня о воробышке… Ты не знаешь ее?
Катулл насторожился и покачал головой.
— Клянусь Венерой Мурсийской, моей покровительницей, я никогда не слышала приятнее слов, чем в этой песенке, — продолжала Канидия. — Ее пел один юноша, который ходил ко мне в прошлом году. Милый юноша, я даже его запомнила. — Она произнесла последние слова с гордостью и посмотрела, какое впечатление они произвели на Катулла. Он поднял брови и поощрительно улыбнулся.
Ознакомительная версия.