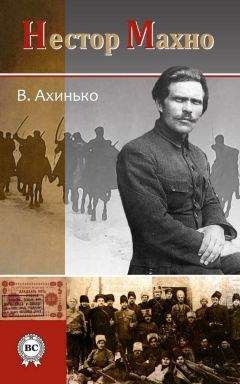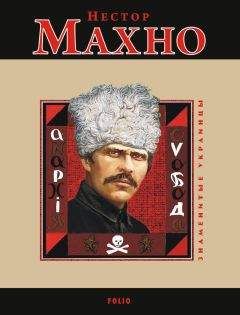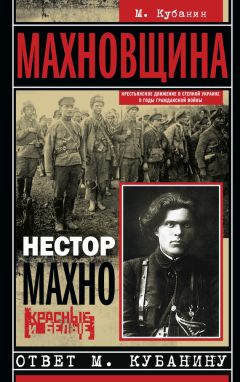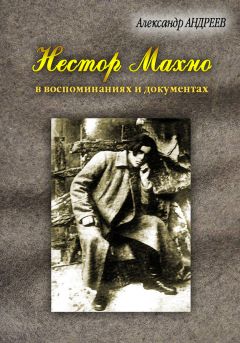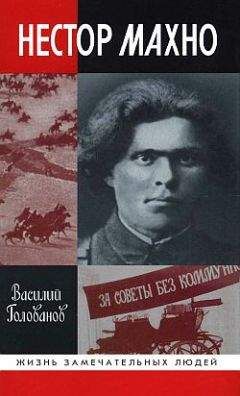Опять остановились. Надолго. Пути были забиты составами, пахло паровозной гарью. Виктор спрыгнул на насыпь и увидел собаку. Она что-то еле тащила через рельсы. Господи, да ногу же. В сапоге! Билаш судорожно глотнул и глянул вниз. Там, в глиняном карьере, навалом лежали припорошенные снегом трупы, не сочтешь даже сколько. А вокруг них поскуливали собаки. Одна, большая, вроде сторожила добычу и не пускала остальных. Билаш поёжился, схватил камень и бросил. Они не разбежались, а завыли по-волчьи. «Одичали! — смятенно думалось. — Псы и люди… Было ли такое когда?» Он не знал историю Украины. Он вообще почти не читал никакой истории, но ответил себе: «Было, конечно. Да спало до поры».
— Виктор? Откуда? — услышал и увидел земляков с винтовками. Новоспасовцы окружили его, не обращая никакого внимания на трупы. А он не мог прийти в себя.
— С того света, — отвечал, криво усмехаясь.
— Ну и шутки у тебя! А мы уже молебен заказали. Айда на станцию.
— Кто там у вас командует?
— Та твий же прыятэль, а наш сапожник — Васыль Куриленко.
Они вышли на дорогу.
— Голова у него не хуже генеральской, слушай, больша-ая! А вот и он!
Подкатила тачанка, застланная теплыми одеялами. С нее легко соскочил мужчина лет тридцати в черном кожухе. Пугвицы на груди не сходились. Он враз обнял Билаша и прижал к себе.
— Потише, медведь!
— Жив, барбос! Жив! — повторял Василий с радостью. — Я же им говорил: такие — не пропадают! Поехали, Витек, в штаб.
Все они — Махно, Каретники, Марченко и Лютый, и Билаш, и Василий — учились лишь в начальной школе. Затем, войдя в кружки анархистов, много читали, спорили. Куриленко в армии приглядывался к мозговитым мужикам, проявил отвагу, получил солдатского Георгия первой степени. В Ново-Спасовке организовал отряд. Австрийцы его турнули, пришлось уносить ноги аж к Азовскому лесничеству. Оттуда с боями прорвались, наконец, к махновцам в Цареконстантиновку, и все атаманчики быстро признали главенство Куриленко.
— Добровольцы нас диким быдлом зовут, — рассказывал Василий, когда сели за стол к горячему борщу, налили австрийского рома. — На днях они поперли буром. У моих землеробов что? Самодельные пики, вилы, дробовики. Были, правда, и пулеметы, винтовки. Но сколько? Слезы! Четыре часа бились. Пропали бы…
Билаш не узнавал своего приятеля: такая уверенность и сила чувствовались в его голосе, жестах. «Мне бы еще прийти в себя, — даже с завистью подумал Виктор. — А то совсем раскис».
— Спасло нас, земляк, что насильно мобилизованные переметнулись, — говорил Куриленко. — Офицеры как увидели — дрогнули, побежали. Мы вооружились и двести пленных взяли. Заметил в глиняном карьере? Там они все, — и Василий выразительно рубанул рукой.
Виктор вздрогнул и залпом выпил стакан рому.
— Я же к Батьке еду, — сказал. — Все силы хочу сжать в один кулак. Иначе — крышка!
— Смешной ты, земляк. Что же, по-твоему, в Гуляй-Поле мало вождей? А впрочем, — Куриленко искоса глянул в широко поставленные черные глаза Билаша. — Впрочем, у тебя, пожалуй, хватит духу. Дерзай, казак, атаманом будешь!
Похвала и поддержка столь крепкого мужика много стоила. Виктор это оценил, положил руку на плечо приятеля, сжал его и отпустил.
— Да, семья бедствует твоя, — прибавил Василий. — Хаты-то нет. Бабы одни, в слезах. Может, лучше махнешь к ним? Заодно и моих проведаешь.
— А сколько у вас народу?
— Где-то семьсот штыков.
— Э-э, брат, мало. Я в Розовке слышал: чеченская дивизия летит сюда. Надо дружнее раскачивать веревку колокола. Еду в Ново-Спасовку. Дай мне для острастки с десяток сабель.
— Прямо сейчас?
— А чего ждать? Как выражается дед Федор из-под Мариуполя: «Каждый из нас кочевник, привыкший к свободе неограниченного пространства».
— Верно, верно, — согласился Куриленко.
Виктор вытер тарелку корочкой хлеба и поднялся.
— Еду!
Звонили колокола, блестели ризы, маячили иконы и хоругви. Я действительно не принимал в этом участия, но что же из того? «Казаки», которые мерзли с самого утра, как на царских парадах, понуро глядели на это старое, знакомое им явление и знали, что это Директория так празднует свою победу, — «революционная», «де м ократичес кая»…
В. Винниченко. «В/'дродження наци».
Сожженную хату Евдокии Матвеевны, матери Махно, привели в порядок на реквизированные деньги: вставили новые окна, двери, наладили крышу из красной черепицы, завезли мебель. Нестор лежал на кровати, пахнущей лаком, и вытирал со лба испарину. Его прихватила испанка (Прим. ред. — Вид гриппа). Вчера мать даже плакала над ним: «Сыночек, сыночек, полюбил ты эту свободу, как черт сухую вербу. Мытарь мой несчастненький». Он весь горел, бредил, вскрикивал:
— На рубку их! На рубку!
«На яку таку рубку?» — недоумевала Евдокия Матвеевна в страхе. Ее сменял у постели больного брат Савва, недавно выпущенный из Александровской тюрьмы, того — Петр Лютый или Григорий Василевский. Поилй Нестора крутым настоем зверобоя, чаем с малиновым вареньем, подметали в хате только веником из полыни-чернобыля, и сегодня полегчало.
— Батько, наши пригнали вагоны с оружием! — радостно сообщил Лютый. — Теперь держись, вражина! Прибыли даже пироксилиновые бомбы!
— Где хапнули? — слабым гоЛосом спросил Махно. — Петлюровцы вроде не обещали.
— Да ты же знаешь Сеню Миргородского как облупленного. Он и у сатаны из зубов выхватит. Когда грузили винтовки, заметил в складе кучу взрывчатки. Но не подступишься, казаки зверем глядят. Занес две бутыли самогона. Пей, хлопцы! Вот так хабарь!
— Семен далеко?
— Дома. Всю семью испанка завалила.
— Зови. Хочу подробности услышать.
— Может, завтра? Поспи лучше.
— Не-ет. Зови.
Миргородский был памятен ему по событиям годичной давности. Им тогда поручили «разгрузить» Александровскую тюрьму, такую знакомую паршивку. Послушали арестантов и… разошлись ни с чем. Не явился, видите ли, член ревкома, будущий председатель местной чеки. Нестор возмутился: «Разве может быть что-то более важное, чем дать людям свободу?» Он уже тогда полагал, что тюрьмам не место на земле.
Потом прибыл с севера целый эшелон — первая красногвардейская группа «помощи украинским рабочим и крестьянам в борьбе против Центральной Рады». Это за четыре месяца до прихода немцев. В столыпинских вагонах, кроме того, привезли генералов, полковников царской армии, полицейских, прокуроров — более двухсот человек. Их судьбы вручили фронтовому суду. Председателем избрали Махно, секретарем — Сеню Миргородского. Дали дела: «Читайте и быстро решайте. Времени в обрез!» — «Как, не видя людей?» — гневно спросил Нестор и стал вызывать бедняг по одному.
«Зачем их припёрли? — пожимал плечами Сеня. — Хотят спрятать грехи? Чтоб родные не выли? Нашими руками жар загребают?» Махно смотрел на него с любопытством: слишком въедлив этот левый эсеришко, как тюремный клоп! «Обратите внимание, — продолжал Миргородский, стуча пальцем по протоколу, — человека схватили без оружия. И того тоже. Нашли контру! Они попались по доносам гадов, которые под шумок сводят личные счеты. Эх, большевички — железная метла. Исколбасят они публику ой-йо-йой. Попомните мое слово. Надо выпускать, Нестор Иванович!» Многих освободили. Но было и другое. Допрашивали полковника. Он ничего не скрывал, ни о чем не просил. Когда выводили, крикнул: «Да здравствует Государь император Николай Александрович!» — «Враг, а красив, — заметил Сеня. — Со смертью за ручку. Мне бы его мощь!»
Вот такого живчика ждал Нестор. Он уже вздремнул, попил крутого настоя зверобоя, заботливо поданного Евдокией Матвеевной, когда вошел Миргородский. Лет тридцати, молодцеватый, в дубленом полушубке, он так и стрелял по сторонам темными воловьими глазами. «Еврей или хохол — сама бабка-повитуха не разберет, — прикидывал Махно. — Скорее всего, гремучая смесь».
— За оружие спасибо, — сказал. — А руки не подаю, чтоб не заразить. Как там Екатеринослав?
— Слоеный пирог, Батько. Полмоста через Днепр держат петлюровцы, а с другой стороны торчат большевики. Намыкались с вагоном, — Семен присел. — В центре австрийцы, по бокам добровольческий корпус. Ни-ичего не поймешь!
— Слушай, по силам взять Екатеринослав?
Миргородский призадумался.
— Ежели с кем-нибудь снюхаемся, — ответил. — Пока там неразбериха. Ранняя пташка росу пьет.
— Говори яснее. С большевиками, что ли?
— Только с ними!
— Почему, Сеня?
— Железные пройдохи!
Когда Махно чуток поправился и, захваченный замыслом взять губернию, созвал в Гуляй-Поле большой митинг и начал там сначала тихо, потом все пуще распаляясь, говорить поверх тьмы голов, что качалась, любовно смотрела на него (а где-то по восставшим селам тоже ждали его появления и слова), когда он кидал ей призывы к борьбе за землю и свободное от любой власти житье, и масса открывала рты и вопила восторженно, уже не слушая его, — он чувствовал и знал наверняка, что это не ОДИН говорит, а поверившее в него, вот. оно, многоликое существо, плотью от плоти и душой от души которого он теперь стал. Батько лишь внятно выражал то, что ОНО давно жаждало и чего вместе с ним алкало. Что могут поделать с ЭТИМ все Ленины, директории, Красновы, Вильгельмы и прочая? Кто они такие? Хай ученые-переученые, генералы, министры, комиссары, пусть даже колдуны индийские прибегут — все они есть и будут чужаками для слитой в едином порыве массы гуляйпольцев, а скоро, глядишь, и екатеринославцев, и всех украинцев!