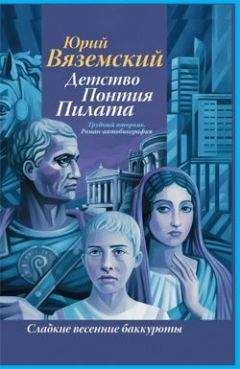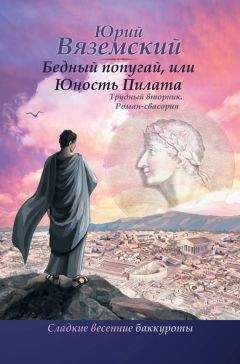А Юлия побледнела, тряхнула головой и с горечью произнесла:
«Да, ты. Еще тогда, когда решил сделать Ливиного сына моим мужем. Неужто не знал, чем всё это закончится?»
Август поджал губы, на левой щеке вокруг едва заметного шрама появилось красное пятнышко и левый глаз чуть задергался — признаки сдерживаемого гнева, как знали очень близкие к принцепсу люди. Август шагнул к дочери, взял ее за подбородок, поднял ее голову так, чтобы взгляды их встретились, и с тем же вздрагивающим глазом, с тем же пятном на щеке, всё более расширявшимся, процедил сквозь зубы:
«Ливия любит тебя, как родную дочь. Тебе это прекрасно известно. И в моем доме — в нашем доме! — ты для всех родная и всегда желанная. Об этом надо думать! А не о тех глупостях, которые лезут тебе в голову».
Тут Август отпустил Юлин подбородок и направился к выходу. Но на пороге обернулся, всё еще с пятном на щеке, но уже без подрагивания глаза:
«Ты только не забывай, что, помимо Гая и Луция, у тебя есть другие дети. О них тоже надо заботиться, почаще с ними бывать».
И вышел.
А Юлия с той поры почти совсем перестала бывать в доме на Палатине. Удлинила прогулки и участила пиры с Гракхом, с Юлом, с другими своими адептами.
VIII. — Юл тоже переменился, — вновь перескочил Гней Эдий. — Он стал еще более красивым и мужественным. Две улыбки — ты помнишь, я тебе их описывал? (см. 18, IV) — исчезли с его лица, и теперь осталась только одна улыбка — строгая и печальная, глядя на которую, тебя самого будто охватывала печаль, и ты начинал сожалеть… о чем? трудно сказать, но в тебя проникало и сожаление.
Глаза его теперь приобрели постоянный желтый, темно-желтый цвет; и эта их желтизна, во-первых, поражала своей неестественностью, а во-вторых, была какой-то сумрачной, холодной, недоброй. Тяжело было смотреть в эти глаза, но, с другой стороны, совсем не смотреть в них было почти невозможно, потому что они словно притягивали тебя своей необычностью и… да, почти демонической красотой… Иначе не могу выразить ощущение…
Морщина между бровей — помнишь? Теперь еще одна морщина появилась, от середины лба к переносице, образовав как бы крест.
Из голоса исчезла хрипота. Юл теперь говорил чистым и ровным голосом, скорее баритоном, чем басом. И вот еще странность: чем тише Юл говорил, тем повелительнее звучали слова…
Я Юла сумел изучить, потому что он трижды со мной разговаривал. Один раз окликнул меня на улице, подошел и стал просить, чтобы я «вернул Феникса». Так и сказал: «Я знаю, ты ему самый близкий друг. Верни его нам. Юлия по нему тоскует. И всем его не хватает. Уговори, постарайся».
Второй раз явился ко мне домой и попросил раздобыть для него Фениксову трагедию, не первую, а вторую его «Медею». Дескать, Юлия ее требует, а он, Юл Антоний, ни в чем не может отказать дочери Августа.
В третий раз прислал за мной лектику и просил пожаловать к нему на обед, на котором, помимо разного рода женщин, были Помпей и Криспин, Пульхр и Сципион. Гракх и Юлия, правда, отсутствовали. Но Юл объявил, что считает меня своим давним приятелем, надеется на то, что я буду часто бывать и у него, Юла Антония, и у Юлии с Гракхом, которые якобы часто обо мне справляются и давно ищут встречи со мной.
Феникса ему я, конечно же, не смог вернуть и, ясное дело, не собирался. Но обещал, что буду стараться. «Медею» скоро достал, уговорив Феникса разрешить мне сделать копию с трагедии, дескать, лично для меня. И с той поры я изредка и тайно от моего друга стал бывать на сборищах Юла и Юлии, конечно же, не в роли нового адепта, а в качестве наблюдателя и, если угодно, разведчика…Один из моих знакомых, вернувшись из Африки, рассказывал, что антилопы, завидев льва, не бегут от него, а держатся на определенном расстоянии, дабы, вместо того чтобы пуститься наутек навстречу неизвестности и неожиданной засаде, издали следить за поведением хищника и предвидеть опасность… Вот так и я стал вести себя, естественно, никаких своих интересов тут не преследуя, а исключительно в целях охраны моего Феникса и для предупреждения возможных провокаций.
Это во-первых. Во-вторых же… Буду честен с тобой и признаюсь: Юлу почти невозможно было отказывать. Я теперь сам на себе испытал…Как бы тебе это объяснить, молодой человек?.. В Юле Антонии с каждым годом становилось всё меньше человеческого и всё больше того, что некоторые греческие стоики называют демоническим. От него словно запах шел, запах иной природы. Будто в Ахайе, в Азии или на Кипре в Юла вселился призрак его отца. И этот призрак сначала затаился, а потом решил воспользоваться душой и телом своего сына, чтобы отомстить за свои унижения, за свой позор, расплатиться с Августом, с его семейством, с Римом самим расквитаться за свою страшную гибель! И Марк с каждым годом всё больше вытеснял Юла. Но мстящий призрак, выходец из египетской могилы, скрывался внутри. А на поверхности, обращенной к людям, — сумрачно-прекрасный, притягательно-одинокий живой человек!.. Спорить с ним было невозможно, потому что едва ты начинал ему возражать, тебе тут же хотелось замолчать и ему подчиниться. Взгляд его был настолько тяжел, что, как я заметил, даже Юлия, даже Гракх избегали с ним встречаться глазами… Ты отводил взор. Но взгляда его не мог избежать. И он жег тебе лоб, леденил грудь, долго стоял перед глазами и снился тебе по ночам…
Особую власть Юл имел над женщинами. Но и мужчины — за исключением разве Квинтия Криспина: на этого шута вообще ничего не действовало! — почти все мужчины испытывали на себе демоническое влияние Юла Антония и ему подчинялись.
Мы уже почти дошли до гельветской деревни. Вардий вдруг остановился, схватил меня за руку и сказал:
— Ты прости меня за вчерашнее. За эти поглаживания. Я лишь хотел показать, что и ласки можно сделать… отвратительными. Мы ведь говорили о Любви к нелюбви.
И тут же, словно опомнившись, Гней Эдий воскликнул:
IX. — О Фениксе мы забыли! Я всё о Юле, о Юлии… Но не волнуйся, сейчас вспомним!.. Так вот, о Фениксе. С Юлией и с ее адептами он ни разу не встретился. Он занялся тем, что через год, нет, через два, описал в своем «Лекарстве»… Я еще не давал тебе читать? «Лекарство от любви» не давал? Ну, так дам обязательно, когда мы вернемся. Он там многое описывал из своих ухищрений…
Так отправляйся же в путь, какие бы крепкие узы
Ни оковали тебя: дальней дорогой ступай!
Будь только тверд: чем противнее путь, тем упорнее воля —
Шаг непокорной ноги к быстрой ходьбе приохоть…
У него в этой антилюбовной терапии, как сказали бы греки, или в «обугливании Фаэтона», как он сам однажды выразился, три этапа было в этом действии. Первый этап — попытка убежать из Рима. Сначала он исчез из Города, не предупредив об отъезде, не сообщив, куда направляется, даже не попрощавшись со мной, своим лучшим, если не единственным другом. Недели две его не было. А когда вернулся, пришел ко мне, сел напротив и молчал, вперив в меня тот самый взгляд, который у него появился в последнее время… Я тебе уже, кажется, описывал: глаза будто ослепшие, и от этого почти безжизненное, словно маска, лицо, на котором изредка возникала едва заметная, но очень неприятная улыбка… На расспросы мои почти не отвечал. Мне лишь удалось узнать, что направился он на север, добрался чуть ли не до Медиолана, но потом повернул обратно. Уходя, сообщил, улыбнувшись слепой улыбкой:
«Я, Тутик, похоже, не то выбрал направление. Нельзя мне на север. Мне надо на юг… Дней через пять поеду в Ахайю. Оттуда, наверное, на Крит. А с Крита, пожалуй, в Африку… Ты не сердись. Тебя не зову. Но непременно зайду попрощаться».
…Действительно, укатил. Но не через пять дней, а через три. И не зашел попрощаться…
Нет, покинувши Рим, не ищи утешения горю
В спутниках, в видах полей, в дальней дороге самой.
Мало суметь уйти — сумей, уйдя, не вернуться,
Чтоб обессилевший жар выпал холодной золой.
…Путешествовал сушей, сначала на иноходце, а затем на муле, у которого спину натер чемодан, а всадник вытер бока. Добрался до Брундизия, договорился с каким-то капитаном плыть на Керкиру, уплатил деньги, сел на корабль, но перед самым отплытием сошел на берег и не вернулся, оставив на борту свой багаж.
В Риме объявился месяца через полтора. Меня о своем возвращении не известил. Я его случайно встретил в садах Мецената и в первый момент не признал. Мы шли в одном направлении. Я шел сзади. И вижу: передо мной идет какой-то подросток, одетый во взрослую тогу; походка небрежна и ленива, но руками не размахивает — то есть, они у него совершенно не движутся, как непременно бывает у идущего человека. Этими-то неподвижными руками я заинтересовался и, ускорив шаг, догнал шедшего впереди меня. Я принялся сзади разглядывать его вьющиеся белокурые волосы и шею, кожа которой поразила меня своей почти женственной нежностью. Он, вероятно, почувствовав на себе мой взгляд или услышав шаги за спиной, обернулся, и я увидел перед собой воистину странное лицо — с одной стороны, детское, беззащитное и будто виноватое, а с другой… трудно описать это новое выражение, появившееся у него на лице… Представь себе: он одновременно смотрел и на тебя, и как бы в глубь себя, удивленно наблюдая и грустно вспоминая, вовне — по-детски открыто и немного испуганно, а вовнутрь — с какой-то почти старческой мудростью и покорностью… Клянусь тебе, я не сразу догадался, что передо мной Феникс. А когда понял наконец, то у меня не возникло ни малейшего побуждения протянуть к нему руки, обнять его… Мы ведь долго не виделись!.. Нет, что-то в его взгляде не просто сковало мои естественные чувства, но даже не дало им родиться.