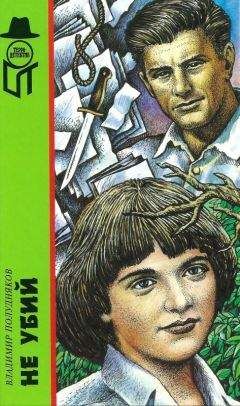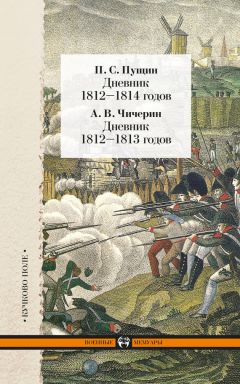— Золото, правда… — пробормотал он, — и все двойные луидоры….
— Так же, как и во всех этих свертках, — сказал я. — Всех их пятьдесят и в каждом по сто двойных луидоров. Потрудитесь пересчитать.
Окинув ряды столбиков быстрым взглядом, он убедился в верности счета.
— А себе вы ничего не оставили? Или, может быть, кроме этих, в потайном ящике были еще деньги?..
— Вы забываете, граф, что говорите с офицером! В лице и голосе моем выразилось, должно быть, такое неподдельное возмущение, что граф поспешил извиниться:
— Простите, мосье; но столь редкое бескорыстие… Вы сами, верно, очень богаты?
— Напротив: кроме казенного жалованья, у меня нет никаких собственных средств.
— Удивительно! Вы, конечно, тоже высокого происхождения?
— Нет, я даже не дворянин.
— Непостижимо!
И опять заходил из угла в угол. Потом круто вдруг обернулся.
— Скажите: какие это на вас ордена?
— Это вот — прусский железный крест за Кульмскую битву, а это — наш русский Георгиевский крест за неприятельское знамя, которым я завладел под Лейпцигом.
— Значит, при всей своей молодости, вы успели уже выказать большую храбрость и врожденное благородство. Ведь и родоначальники моего семейства заслужили свой графский титул своими рыцарскими качествами. Род наш один из самых древних… Только герцоги, графы и бароны Монморанси древнее нас, — прибавил он с презрительной усмешкой, — они ведут свой род ведь еще со времен допотопных.
— Как так?
— А так, что в гербе их изображен потоп и Ноев ковчег; к ковчегу подплывает кавалер в рыцарских доспехах и подает Ною пергаментный сверток с надписью: «Мосье Ной, благоволите принять на хранение документы фамилии Монморанси». Остроумно, не правда ли?
— Не столь, — говорю, — остроумно, сколь тупоумно.
— Именно, что так. Нет, мы, де Бриенны, стали известны только со времен крестовых походов, но рыцарский дух в нас до сих пор не угас. Вы, мосье, без всякого понуждения, сами от себя, по таким же рыцарским только наклонностям своим, явились ко мне, чтобы возвратить законному наследнику наследие предков. Позвольте же и мне, последнему отпрыску рода де Бриеннов, отплатить вам тем же. У вас, в России, какую часть найденного полагается выдавать нашедшему?
— Сколько мне известно, третью часть.
— Ну, вот. Всего вы нашли в потайном ящике шесть тысяч двойных луидоров. Стало быть, две тысячи, по полному праву, принадлежат вам.
Видя мое смущение и колебание, он сам отделил мне двадцать свертков.
— Берите, берите, пока я еще не раздумал. Все равно сегодня же поставлю на карту.
— Вот что, г-н граф, — сказал я. — Для себя я этих денег ни за что не возьму, но в России у меня есть невеста.
— Бесприданница?
— Да…
— И прекрасно. Пускай же это будет ей от меня приданым.
И вот, я опять в своей комнате у мадам Камуфле, и предо мной груда золота — благоприобретенное, неоспоримое приданое Ириши. И может она хоть сейчас под венец идти… Исайя, ликуй!
Мамоновцы не унимаются. — Приезд нового монарха французов и проводы старого. — Бриллиант в каблуке
* * *
Апреля 9. Чего-чего я здесь не перевидел! Был и на гобеленевой фабрике, съездил в Версаль посмотреть на знаменитые фонтаны, а в Лувре и Зоологическом саду столько раз перебывал, что и идти уж неохота. Ни на что бы не глядел, лишь бы домой к себе в Россию вернуться. Но задержка за новым королем французов Людовиком XVIII, который от низверженного Наполеона все еще в Англии спасается. У страха глаза велики.
* * *
Апреля 13. В главном штабе, где граф Дмитриев-Мамонов давно уже притча во языцех, получен от него рапорт из великого герцогства Баденского. Жалуется, вишь, в своем рапорте на насилия, чинимые будто бы ему и казачьему полку его местными жителями и властями. Но в штабе из того же рапорта вычитали, что первым зачинщиком всяких безобразий и насилий были они же, мамоновцы, и их командир. Посему ему посылается прегорькая, непозлащенная пилюля — строжайший выговор. Как-то он его еще проглотит? Не поперхнулся бы.
* * *
Апреля 20. Людовик XVIII покинул, наконец, Англию и остановился в Компиене, куда государь наш и съездил его приветствовать. Казалось бы, что встреча со стороны нового короля, возведенного на престол праотцов лишь великодушием русского царя, должна бы быть самая любезная. Между тем своего благодетеля он принял сидя сам в кресле, а ему только стул предложил. И ни слова ведь признательности: говорил лишь про Всеблагой Промысел Божий, да про свои собственные «непреложные» права. Гордыня обуяла!
Вся свита царская была страшно возмущена. Сам же государь в неизречимой доброте своей только плечами пожал:
— Король — человек больной и дряхлый: неудивительно, что он сидел в кресле. Но на его месте я все-таки приказал бы подать и гостю кресло.
* * *
Апреля 21. Новый король у себя в столице. Въехал в золоченой карете и с ним герцогиня Ангулемская, герцоги Конде и Бурбонский. Вид у него не то чтобы горделивый, наполеоновский, а напыщенный, словно кичится он своей толщиной непомерной. Вкруг кареты приверженцы его толпились, — на шляпах белые кокарды, в руках белые знамена, — и без передышки кричали: «Да здравствует король Людовик XVIII!»; ну, и народ, как водится, сии крики подхватывал. Но востор-г был все же как бы подогретый, не то что при въезде императора Александра, которого они куда бы охотней, полагаю, провозгласили и своим императором.
В соборе Парижской Богоматери, отстояв молебен, король принял парад своих родных войск. Но мундиры у французских солдат походные, поношенные (парадных, знать, сшить еще не поспели), а на изнуренных, усталых лицах не радость, а грусть затаенная написана. По великом полководце своем Наполеоне еще грустят!
Уверился я в том воочию на девере моей хозяйки, брате покойного ее мужа, Филиппе Камуфле. Служив до сих пор в Наполеоновой старой гвардии капралом, он с остатками оной из Фонтенебло в Париж прибыл, чтобы служить отныне новому монарху.
Со слезами поведал он нам: мне, хозяйке и сыну ее Габриэлю, выползшему, наконец, тоже с повязанной еще головой из своей раковины, — как низложенный император 8 числа в Фонтенебло с ними, старыми гвардейцами, прощался.
Выстроились они во дворе тамошнего дворца. Вышел он к ним бледный, расстроенный.
— Старые мои боевые товарищи! — возгласил он, и голос его дрогнул. — Неразлучные доныне друзья мои по пути чести! Пришло нам время расстаться. Мог бы я пробыть еще с вами, но к войне с чужеземцами прибавилась бы еще война народная, а терзать долее мою Францию нет у меня сил. Обо мне не печальтесь. У меня есть еще своя обязанность — рассказать потомству о всем том великом, что мы вместе с вами совершили. Мне дозволено из ваших рядов взять с собой в изгнание 600 человек. Кто желает разделить мою горькую участь — выходи вперед.
И все его боевые товарищи до единого рванулись вперед.
— Благодарю вас, друзья мои! — сказал он. — Придется, видно, самому мне сделать выбор.
И, обходя ряды, он перстом указывал одного, другого, третьего, десятого. Так набрал он себе сотню за сотней.
— Посмотрим, — говорит, — есть ли уже полное число?
— Недостает, ваше величество, еще двадцати человек, — заявил генерал Друо.
Дополнив еще двадцатью шестую сотню, Наполеон отобрал к ним унтер-офицеров и офицеров.
— Остальных, Друо, ты отведешь в Париж к Людовику XVIII после моего отъезда.
Сказал и возвратился во дворец. Дорожные кареты стояли уже во дворе. Старая гвардия, однако, все еще не трогалась с места. И вот, он снова показался на крыльце со всем своим штабом.
— Товарищи! — сказал он. — Мне хотелось бы каждого из вас заключить в объятия. Ваше знамя являет вас всех. Дайте же мне обнять его.
И, сойдя с крыльца к знаменосцу, генералу Пти,
державшему в руках знамя старой гвардии, он прижал к груди знамя, а потом самого знаменосца. Тут кругом поднялся общий стон и вопль, а он кинулся к карете…
— Так вот как прощался он с нами, наш полубог… — заключил свой рассказ старый гвардеец и всхлипнул. — Все мы готовы были идти опять за ним хоть на край света и лечь за него в могилу… А здесь, в Париже, народ уже забыл, что он на весь мир нашу Францию прославил; никто не горюет, все радуются, что дали им нового короля: «Да здравствует король!»
Мадам Камуфле горестно головой покачала.
— Всему, — говорит, — свое время — и славе, и горю. Ведь когда неприятели обложили со всех сторон Париж, у нас и съестных припасов-то почти не оставалось; хоть ложись и с голоду помирай. Кому уж тут до прошлой славы? Ту касс, ту ласе, ту пасс! (все, мол, ломается, все истощается, все кончается! Или по-нашему: перемелется — мука будет).