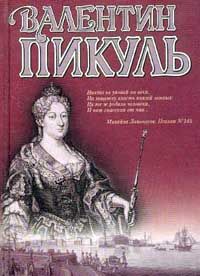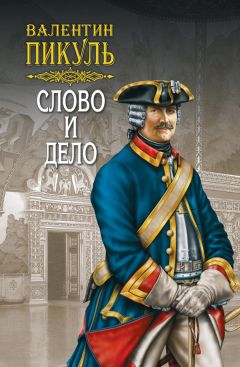— Вот иконы, — показал, — ты мастер писать. А ворожбою меня не возьмешь. Сударушка моя не понесет, хоть ты всю бороду ей подари. Забери патлы свои обратно… А теперь — брысь!
Пришел из лейб-регимента поручик с рапортом: кому из кавалергардии быть в драбантах на селе Всесвятском. Иван Ильич, по должности своей, подмахнул бумагу обкусанным пером.
— Лошадей держать под вальтрапами, — велел. — Супервесты иметь парадные. Барабаны украсить занавесками. Палашей не отпускать — пущай тупыми побудут: не драться же ими в карауле!
После чего на половину царевны прошел. Через кухни следуя, выпил ковшичек водки царской, закусил пряникам мятным. А в гостях у Прасковьи — Феофан Прокопович, на пальце бороду в кольца навинчивает, меж ними часы с амурами, и музыка в часах венские канты играет. Подошел генерал под благословение.
— Занятная редкость, — сказал, дверцу на часах тронув.
— Постой, генерал, — удержал его руку Феофан. — Зачем крышечку трогаешь? Часы — вещь нежная…
— Оно и верно, что нежная, — ответил Дмитриев-Мамонов, уже заметив, что часы изнутри письмами набиты. — На Руси таких не бывает, чтобы письменным заводом часы двигались…
— То не мои, — ответил Феофан, покраснев. — Царевна-голубушка во Всесвятское едет сестрицу навестить, вот и пущай музыка дивная им там играет.
— Сударыня, — сказал генерал, к жене обратясь, — будто бы и не сказывали вы с вечера, что на Всесвятское сбираетесь?
Царевна показала на Феофана:
— Вот владыка упросил, часы отвезть надобно…
— Дин-дон! — сказал генерал и пальцем у виска покрутил, потом к Феофану обратился:
— А ты, владыка, тоже дин-дон хороший…
* * *
Кто не знает на Москве Анну Федоровну Юшкову? Все знают, да и как не знать: боярыня знатная… Тихо текли годы в древнем доме, и все как-то за стеной проходило: бунты стрелецкие, петровские ассамблеи, машкерады по случаю викторий. В смирении да постности тянулись годы. Вечерком ляжет Юшкова на печную лежанку, девки ей перышком гусиным пятки ласкают, а странницы чмокают сахарком:
— А то вот, боярыня, был еще такой Феофил-старец. Чуден был в святости! И так от молитв проникался, что плакал. А чтобы недаром плакать, он корчагу под себя ставил. И теи слезки евонные в корчагу капали. Тридцать лет сердешный не пил, не ел — только плакал. И слезки свои копил. Чтобы предъявить их на Страшном суде… Но только, боярыня, на том свете-то слезки его отвергли. А корчагу обратно на землю из рая свергнули!
— Ой, ой, ой, — вздыхала Анна Федоровна Юшкова, переживая.
— Да, милая боярыня, так и шваркнулась корчага на болото. Только лягушки по сторонам — скок-скок! А небесные анделы тут слетелись. Да Феофилу бо-ольшой горшок показали. Куды как больше корчаги евонной… Заблагоухало тут! А в горшке том — слезы, кои Феофил-старец мимо корчаги пролил. Вот так и выплакал он себе царствие небесное!
Анна Федоровна (по родству с Салтыковыми) приходилась родней царевнам Ивановнам, но судьбы своей не ведала. Не стемнело еще над Москвой, как она велела ворота на шкворень заложить, собак с цепи сбросить да сторожей расставить. Только было собралась Юшкова на лежанку завалиться, тут и забарабанили в ворота, выпал шкворень, завизжали собаки, взвыли сторожа…
— Хосподи, не худые ль люди жалуют? Разбойником ворвался Семен Андреевич Салтыков, сгреб родственницу с лежанки, стал в шубы кутать:
— Облачись скоро, да езжай до Всесвятского… Тебя ея императорское величество с утра до особы своей требуют!
Так и обмерла Анна Федоровна… Неслись над головой яркие звезды, стреляли по бокам деревья. Закидало ее снегом, рвали царские кони в темноту, в ярость, в морозную стынь. Приехали. Даже встать не могла. Видела только из саней дубовый дворец царицы Имеретинской, чернавки Арчиловой, а в сенях приятный «маркиз» Лукич распеленал Юшкову от шуб и платков, подивился:
— Это и есть дура? Ну, так несите наверх ее! Двое дюжих молодцов, князья Цициановы, подхватили безгрешную девицу под локотки, повели вверх по лестницам. Стучали об ступени белые ноженьки. А в пустых палатах стояла царица престрашного зраку.
Сверху глянула, и князьям Цициановым махнула:
— Отпустите дуру. Пущай отойдет… Понемногу отошла Анна Федоровна, дерзнула и глаза поднять. Тогда Анна Иоанновна спросила ее:
— А что? Неужто я тебе столь грозна кажусь? Юшкова, чтобы страх доказать, в подпечек головой сунулась.
— Не приведи бог! — отвечала. — Экая святость-то от тебя, государыня, так и прет, так и шибает в меня, будто пар от каменки!
Тут Анне Иоанновне стало так хорошо, так приятно от чужого страха, что она смилостивилась над бедной девицей:
— Ну, встань! Наслышана я, что слава идет на Москве такая, будто никто лучше тебя не умеет ногти стричь. Вот и позвала: отросли у меня ногти в дороге…
Юшкова снова — бух в ноги, умилилась:
— Да недостойна я к тельцу-то твоему прикоснуться! Разулась Анна Иоанновна, пошевелила большими пальцами:
— Вишь, отросли-то как… мамыньки! Ножни где? Юшкова подползла к императрице и вдруг — мелкомелко, словно мышонок, — обкусала все ногти на ногах Анны Иоанновны.
— Ишь ты как, ишь… недаром слава идет! Мастерица… Юшкова огрызки ногтей в тряпочку собрала:
— Храни, матушка-государыня, не выкидывай.
— Да на што они мне? — хмыкнула Анна Иоанновна.
— Всех нас ждет час господень. Как же ты без ноготочков на Сионскую гору полезешь? В царствие небесное труднехонько залезать… Я и свои ноготки не выкидываю — коплю!
— И много ль их у тебя? — спросила Анна с интересом.
— Да уж скоро полный чулочек наберется.
— Ну ладно. — Анна Иоанновна поднялась. — Повелеваю тебе, дура, всегда при нашей особе состоять. И ногти мои царские стричь и копить. А чтобы не пусто тебе было, получишь кажинный день пива по шесть бутылок да рейнвейну по бутылке…
— Доброта-то! — умилилась Юшкова, снова заползав.
— А по два дни, — расщедрилась Анна, — будешь иметь от стола моего по кружке вина. Да водки гданьской по штофу малому.
— Господи, помоги осилить, — взмолилась Юшкова.
— Да месячно тебе: чаю по фунту с четвертью, да кофию по три фунта, да сахарку кенарского отбавлю еще… Ну небось рада?
С тех пор Юшкова так и осталась при императрице. Великую взяла она потом силу! Так что вы с Юшковой теперь поосторожнее… Как бы не напакостила чего!
* * *
Наступал день — 12 февраля, Остерман позвал лютеранского пастора, причастился, как перед смертью. Боялся и Феофан этого дня: часы переправил Анне, а в часах тех — планы потаенные. Страшилась и Анна Иоанновна: с утра еще, как с постели встала, ступила на пол ногою правой, правую ногу наперед левой обула, из покоев шагнула ногой правой, чтобы виноватой в сей день не бывать.
Во дворе дома грузинской царевны Арчиловны с утра звенело оружие, ржали кони кавалергардии, бряцали палаши и стремена. В карауле — эскадрон драбантов и батальон преображенцев. Анна Иоанновна, шубейку накинув, спустилась вниз по ступеням крыльца, и гвардия встретила ее «виватами». А следом за Анной молодцы Цициановы катили бочки с вином белым, несли подносы с кусками мяса жареного.
— Родненькие мои! — прослезилась Анна перед гвардией. — Уж не знаю, как отвечать на любовь вашу… Виват, гвардия! — вдруг провозгласила она хрипло. — Виват, драбанты кавалергардии славной! Виват и вы, преображенцы геройские!
Что тут началось: рвались к ней, плакали.
— Полюби нас, матушка! — вопил Ванька Булгаков, секретарь Преображенский. — Объяви себя полковницей нашей, как и положено государям российским… Да полюби! Да полюби!
Преображенский майор фон Нейбуш, с протазаном в руке, стал перед Анной салюты вытворять, почести ей оказывая. Анна целовала Нейбуша в замерзшие щеки, сама вино из бочки черпала, куски мяса кидала. А кавалергарды (люди особо знатных фамилий) были в покои званы, где к ручке прикладывались. Тут Анна из своих рюмок их потчевала, и драбанты клялись ей в верности.
— Будь капитаном нашим, — просили. — А мы за тебя головы наши сложим, власть самодержавную не дадим уронить…
Анна Иоанновна осмелела.
— И тако сбудется! — объявила властно… Первый акт самодержавия (в противность кондициям) был совершен, и Остерман отпустил от себя пастора, начиная «выздоравливать»… Старика Голицына чуть удар не хватил.
— Надобно и нам ехать, — сказал министрам. — Сбирайтесь до Всесвятского. Да кавалерии прихватите, а то как бы она самолично их на себя не надела! Лучше уж из наших рук… Едем, едем!
Приехали. Гуртом тронулись верховные по деревенской улице, лаяли из-под ворот мужицкие кабысдохи, бежали за вельможами мальчишки, дымно курились трубы дворца грузинского. Впереди заплетал ногами, шелком обтянутыми, великий канцлер Головкин, а позади министров выступал Степанов, неся на блюде золотом знаки двух кавалерии — Андрея Первозванного и Александра Невского… Слепило глаза секретарю от величия и блеска звезд орденских.