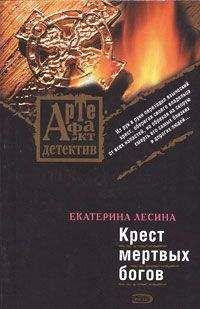в ту мерклую ночь высыпали на крыльцо, стояли, дивились, не опасаясь, что огонь переметнется на крестьянские подворья: отодвинуты от запластавшей ярким полымем огорожи где темным, зелено посверкивающим болотцем, где крохотным синим озерком, что появилось с месяц назад, и, кажется, не зря появилось, пригодилось людям, не пустит огонь на деревню.
Евдокия и Евдокимыч в ту ночь тоже не спали, так, подремали, а чуть свет, повязав за спину мешки с малым съестным припасом да закинув на плечи тоненько зазвеневшие литовки, вышли со двора, а скоро были близ огорожи, что, протянувшись саженей на десять, лежала порушенная, а местами и сильно обгоревшая. Они переглянулись точно бы с недоумением, а на самом деле с той же неприметной чужому глазу усмешкой. И то сказать… Зачем на деревне забор, иль того, что взметнулся над лагерем, мало? Зачем подминать вольную жизнь, и так уже слабую, долго ли поломать ее?.. Да нет, недолго. Если и дальше так пойдет, ничего не останется от нее, пыль одна…
Евдокия и Евдокимыч, очутившись за околицей, пошли таежной тропой, и скоро углубились в дремучий лес, тут и солнца не видать, сумрачно и глухо, зато птахи поутру веселы и гомонливы, а не то Евдокия заскучала бы, хотя не в первый раз забредает в таежную неоглядь, тут все знакомо, не чуждо и чувство потерянности, что возникает на сердце, но она умеет подавить его, отодвинуть, и, напрягши каждую в себе жилочку, прислушаться к птичьему гомону и уловить что-то ласковое, чего, наверное, на самом-то деле нету, и только кажется, что есть. Вот и нынче Евдокия пропустила через себя все не однажды случавшееся с нею и повеселела, заговорила о детках, что теперь дома, она могла бы взять их с собой, но Евдокимыч сказал, что идти далеко и неизвестно, где они заночуют: на старом ли месте близ болотца, а может, в другом каком?..
Сумрачно и глухо, и птахи щебечут, на сердце у Евдокии легко и вместе томяще, но это не та легкость и не то томление, которые привычны, это что-то другое, чему вместе вроде бы не с руки быть, и все же они трутся друг о дружку и создают чувство нежности к мужу, тот идет впереди сутулясь и отодвигая рукой ветки, что так и лезут в лицо, а еще близости ко всему, что окружает, хотя бы и к невидимым птахам. Но что из того, что невидимы? Иль Евдокия мало знает о них? Она улыбается и начинает тихонько пощекивать языком, и вот уж не отличишь, она ли воссоздает те звуки, птахи ли?.. Странно, что этого не уловят и сами птахи. Но Евдокимыча не обманешь, он-то понимает, что к чему, и все ж не обернется, точно бы ни о чем не догадывается, и о том даже, что жена, очутившись в лесу, оттаяла. Он старался сделаться неприметнее, шел мягким украдчивым шагом, боясь, как бы под ноги не попала сухая ветка, не обломилась бы, не потревожила Евдокию… Он вспоминал то время, когда впервые узнал про способность молодой жены подражать птичьему ли щебетанью, соколиному ли клекоту. Вот так же однажды навострился в тайгу, и молодуха увязалась за ним, но в какой-то момент поотстала, и он не заметил, а когда обернулся, ее не было за деревьями, что росли густо и неуступчиво, забеспокоился, хотя Евдокиша, как звал ее, знала здешний лес. И все же, все же… Что только не приходило в голову, а пуще того, будто де лесовичок-пуховичок взял молодуху за руку и увлек в гиблые болотины и бросил там… Попробуй-ка выберись оттуда, с гнилого места! Он тогда разволновался, спасу нет, еще немного и побежал бы, сломя голову, куда глаза глядят, и все кричал бы, кричал:
— Евдокиша! Евдокиша!..
Но тут услышал щебетанье, а потом соколиный клекот, щебетанье было слабое, жалостливое, а клекот торжествующе дерзок и несупрямлив, и все это, доносящееся из ближайшей рощицы, так брало за душу, так томило, что тревога усилилась, сказал себе: «Небось птаха попала в злые когти и теперь не вырвется?.. Ах, ты, как надрывается-то! Надрывается-то как!..» И двинулся, скрадывая шаг, чтоб не услышала хищная птица, к рощице, а подкравшись к тому месту, откуда доносились птичьи голоса, увидел, к своему удивлению и радости, не птицу — Евдокию, прислонилась молодуха к березке и насвистывала, приложив ладони к губам. Она не заметила мужа, а он с восхищением смотрел на нее, развлекавшуюся своей умелостью, но спустя немного смутившуюся оттого, что потерялась и теперь не знает, в какой стороне искать мужа. Чуть погодя Евдокия начала кричать, звать его, а он не откликался, было приятно следить за нею, смущенной, и знать, что она принадлежит ему, и никому больше, он, пожалуй, стоял бы так еще долго, если бы Евдокия не сорвалась с места и не побежала через бурелом, сорвав с головы косынку.
Он догнал ее, сказал, заступив ей тропу:
— Ну, чего расшумелась?..
Евдокия заметила, что он не сердится, только делает вид, что сердится, и улыбнулась, и стала говорить, отчего она умеет подражать птицам. Он узнал, что она обучилась этому у Дедыша. Нередко тот брал ее, девчонку, в тайгу, что раскинулась на сотни верст, немерянная. Углядев там ее робость, начал приучать девчонку понимать родимую землю, чувствовать свою неотъмность от нее. Не сразу, не в один день Евдокия усвоила стариковскую правду. С той поры она ничего не боялась в тайге, сознавая себя частью сущего.
Евдокимыч искоса посматривал на жену и едва приметно, одними глазами, улыбался. Откровенно говоря, он тогда мало что понял со слов молодухи, но по нраву пришлись слова о правде, которую тоже хотел бы понять, но прозревал ее не в том, что зовется сущим, в другом, близком. Однако ж и по сей день так и не отыскал ее, единственную, притянувшуюся к мужику. Выплывали другие правды, особенно в последние годы, но все они принадлежали кому угодно, только не мужику: побродяжке ли, сорвавшемуся из отчего дома еще в малолетстве и теперь не тоскующему ни о чем, лишь о куске хлеба, и полагающему, что это нетоскование ни о чем, непривязанность ни к чему и нужны человеку, остальное есть пыль, подымется ветер и унесет ее; фабричному ли люду, возлюбившему лихое, лишь от собственной охоты зависимое, продвижение по жизни, сеющее ядовитые семена, от которых погибель сущему; злоязычному ли ярыжке, по прежним летам всеми нелюбимому, но умеющему и во всеобщей неприязни отыскать нечто необходимое для себя,