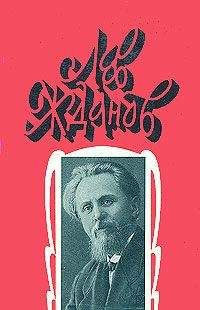Радостно приветствовала толпа лицемерную речь патриарха. Но он, напуганный, решил на деле доказать, как ревниво относится к чистоте веры.
В одно утро сам Феофил с несколькими пресвитерами и с целым отрядом воинов явился в обитель, где спасались «Четыре Долгих Брата», высокочтимых всюду за чистоту жизни и подвиги молитвенные. Два-трн дня подряд, не омочив губ каплею воды, проводили в безмолвной молитве Четыре Брата, за что и прозвали их Долгими. Исхудалые, полунагие, с веригами на теле, с верблюжьим передником на бедрах, — они поражали каждого ясными, детски-чистыми глазами, ласковым выражением старческих лиц. Но они верили по-своему. Они не творили уставных молитв, а беседовали со своим воображаемым божеством, как с добрым другом, соседом в этом мире. И, подобно оригенитам, им не нужно было видеть в Иисусе бога. Назареянин был для них носитель заветов божественных, высочайший между людьми. Бог для Братьев не дробился на три лица, оставаясь единым. Индусское понятие о Тримурти, т. е. о тримордом, триедином боге, перенесенное в христианство учеными апостолами, не вязалось с простым, здравым смыслом Четырех Долгих Братьев. Однако их никто не считал еретиками. Они честно, по-своему служили какому-то богу единому. Иначе решил патриарх Александрии.
Глашатаи прочли указ, в котором предписано было: сровнять с землею Нитрийскую обитель, разогнать иноков, а Четырех Братьев доставить в Александрию, где они торжественно отрекутся от ереси своей.
Только наполовину удался поход воинственного патриарха против безоружных, полунагих монахов.
Обитель была разгромлена совершенно. Монахи частью взяты в плен, частью разбежались. Ушли и Четыре Брата. В Константинополь кинулись они, там описали все, что произошло в мирной, бедной обители. Показали свое избитое тело, раны иноков, взятых ими с собою.
Возмутился весь двор, император, императрица. Иоанн обрадовался случаю свести счеты с Феофилом. И патриарха позвали на суд в столицу. Кирилл, наложник императрицы, сперва старался не допустить до унижения своего дядю. Но потом написал и тайком отправил ему послание, советуя немедленно приехать.
«Ошибку с чудаками-Братьями можно будет тут уладить. А по-моему, пришел час и для „друга нашего“, патриарха-Златоуста. Больно жалит он этими золотыми устами самое императрицу… Наскучили всем его ханжество и святость непомерная. Ему в скит надо, вместе с Братьями, а не сидеть на престоле патриаршем. Приезжай, авва и благодетель, скорее. Наше дело возьмет верх».
Феофил больше всего не терпел неизвестности. Лучше все поставить на карту, чем ждать удара сзади. И через десять дней патриарх Александрии был уже в столице. Большой груз золота и всяких драгоценностей привез с собою этот знаток сердец людских, особенно — дворцовых, византийских.
Быстро примирясь с Братьями, закупив кого только надо было, кто имел хотя бы малейшее значение при дворе, вплоть до самой императрицы и сестер Аркадия, — Феофил сделал решительный ход. Он обвинил Иоанна в превышении власти, в нарушении канонов, в оскорблении величия царского.
Это последнее обвинение было слишком доказательно. Кто не слыхал укоров проповедника-Златоуста, брошенных в лицо новой Иезавели-Евдоксии, императрицы?
Суд собрался быстро. Не явился на него Иоанн. Кротко сказал он Исидору, пришедшему с позывною грамотою:
— Иди с миром, брат. Знаю я судей моих. Чту Бога моего. Приговор уже поставлен. Зачем же я стану играть комедию суда, осужденный заранее? Блажен муж, кто не ходит на совет нечестивых. В пустыню иду. Слагаю с себя сан мой. Пусть берет его достойнейший меня!
В иноческом платье ушел Иоанн из своих палат. Заочно суд низложил его. Стали намечать кандидатов на патриарший престол. Закипели страсти… начались сговоры, подкупы… Ликовал Феофил. Теперь его подголосок, Исидор, попадет в патриархи Византии! А Феофил будет править вселенской восточною церковью.
Но на этот раз случай сделал то, чего не могла сделать справедливость людская.
Задрожала земля… Заколебались холмы, море плеснуло стеною воды на испуганный берег. Стены столицы, башни могучие — рухнули в прах. Половины домов не стало… в груду камней обратились хижины и царские дворцы. Застонал город. Напуганный двор и семья императора, с ним во главе, боялась остаться в садах дворцовых, где почва колебалась и трескалась. Боялись и выйти из них. Кругом смерть и разрушение.
И тут кто-то первый крикнул:
— Господь карает царство за поругание невинного слуги своего. Изгнали Златоуста — гибель грозит столице… и всем, кто в ней!
Безумие слов пришлось кстати в этот миг, когда безумствовать стала сама природа. Народ кинулся к императору, требуя немедленного возвращения Златоуста. А другие толпы — кинулись к жилищу Феофила. Все знали, что это он собрал незаконный собор епископов при Дубе, он довел до изгнания Иоанна. Тайком, переодетый, бежал Феофил от мести народной, уехал в Александрию.
В Риме папа Иннокентий I отлучил от церкви клеветника-патриарха…
Так плохо для «христианского фараона» закончился 397 год.
В Александрии между тем обстоятельства изменились.
Стилихон, направленный против Гильдона, начал теснить самозваного нового владыку южной части империи Ромэйской. Но Гильдон, не раз побежденный воинами августа, снова набирал отряды и упорно продолжал кровавую игру, где ставкою была его же голова, с одной стороны, а с другой — корона Нубии и Египта.
Заглянем теперь, что делается весною 400 года в тенистых, густых аллеях, под портиками и у прохладных водоемов Академии в Александрии.
Журча, как и 11 лет назад, льет из зачарованного кувшина мраморная девушка воду в обширный бассейн, обсаженный кустами лавра и жасмина, еще пышнее растущего теперь. На высоком, из цельной глыбы, подножии стоит новая, бронзовая статуя — императора Феодосия. Простая надпись достойна мастерской работы ваятеля:
THEODOSIO MAGNO POPULUS AEGIPTI (ФЕОДОСИЮ ВЕЛИКОМУ — НАРОД ЕГИПТА)
Конечно, если в бронзе, из которой отлит император, есть несколько оболов из народного кармана непосредственно, то собраны они не без участия низших полицейских и базарных властей. И еще более верно, что вся статуя отлита из пота и крови народной. Но эти материалы сперва, в виде налогов и всяких поборов, попали в казну, в кошели торгового и правящего сословия, а уже оттуда взяты наместником и обращены в величественную фигуру, вдвое большего роста, чем был при жизни отважный испанец-кесарь.
Нарушая обычаи и писанные законы, толпы простонародья и более зажиточные горожане с утра до вечера оглашают голосами, тихие раньше, аллеи садов при Академии. Когда в первый раз отряды Гильдона показались недалеко от Александрии, сюда собрались граждане, потерявшие веру в мощь ромэйских легионов. Как в старину, на ареопаге, — выступали различные говоруны. Одни, подосланные властями, успокаивали этот человеческий океан, взмятенный политическою бурею, охваченный стадным неудержимым страхом, который гнал каждого из его угла туда, где больше себе подобных находил растерянный, жалкий обыватель.
Но в этих скопищах народных был широкий простор и для пособников, посланцев Гильдона. Они ловко умели удить рыбу в мутной воде всеобщего смятения.
И как раз у статуи императора остановился один из таких «ловцов», успев собрать вокруг себя довольно густую толпу, среди которой повел хитро составленный, давно заученный рассказ о мнимом пребывании его в плену у Гильдона.
Говорил лазутчик негромко, опасаясь сторожей, бродящих по парку.
— Да ты… эй, слушай… Погромче. Не бойся, не дадим в обиду, парень! Стань на скамью и докладывай, что видел… А то нам здесь и не слышно! — кричали задние из густой толпы.
Лазутчик взлез на скамью и заговорил погромче.
— Вот, граждане, какое дело вышло со мною…
— Не видно нам!.. Плохо слышно! Стань-ка повыше!
— На подножье статуи. А куклу — снять, пусть говорит человек!
— Как? Снять августа? Коснуться его изображения? Не смейте, — здесь и там раздались возмущенные голоса ромэйцев-эллинов и римлян. Им хотелось узнать новые вести. Но тронуть священную особу императора, хотя бы и литую из бронзы! Это уж слишком великое преступление.
Совсем иначе думали туземцы, около 700 лет придавленные пятою чужих насильников. Попытка Гильдона вернула мужество в их бескровные сердца, силой налила их истонченные руки.
— Вздор… Пустое! Кукла медная должна уступить место живому, хорошему парню. Вали ее!
И с долгим, жалобным звоном, словно с протяжным плачем, упала статуя прямо в водоем, обдав окружающих фонтаном брызг.
Женщины, дети — смеялись. Старики ворчали. А эллины и римские граждане схватились за камни, выдернули из-за пояса ножи, угрожая, негодуя.