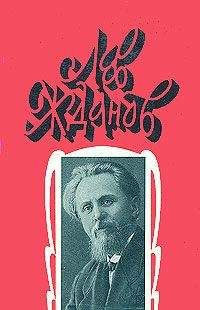— Как хорошо, как здесь прохладно у водоема! — со вздохом облегчения вырвалось у Гипатии.
— Напиться хочешь, я сейчас…
— Быть может, плод граната или гроздь винограда, Гипатия?..
— Если желаешь… я буду обвевать тебя, — срывая густую ветвь, предложил, наперебой с двумя, третий спутник.
Только Синезий, отойдя в тень магнолии, украдкой любовался девушкою.
— Нет, благодарю! Мне ничего не надо. А вот теперь — можете прочесть плоды вашей утренней беседы с Музой, как вы обещали. Я отдохну и послушаю. Начинай, хоть ты, Альбиций… Жаль, что нет кифары или лютни под рукой. Но все равно. Я слушаю.
Побледнев, видимо волнуясь, развернул римлянин небольшой свиток и сильно, порывисто начал читать:
С лентой черной, с непокорной,
рыжей гривою волос,
облик гордый, нежно-твердый,
мне восторг — и боль принес.
Весь пылаю и желаю
обладать тобой давно.
В муках страсти вижу: счастье
это мне не суждено.
Я без милых глаз не в силах жить,
Познанию служить…
Смерть зову я… Сам порву я,
вместо Парки, — жизни нить!
— Красиво сделано, друг Альбиций, — с улыбкой похвалила девушка, когда чтец, умолкнув, стоял перед нею, не спуская с нее влюбленных глаз. — Даже похоже на старые напевы стремительного Горация. Очень неплохо. Ну, садись. Будем слушать эллинский напев Кельсия. Начинай.
Не вынимая свитка или записной дощечки, наизусть, красивым грудным голосом начал чтение Кельсий:
Чувствую, рано склонился я челом над могилою.
Кто ж мое сердце согреет страсти сном, дивной силою?
Милая, нежная дева, как цветок, ароматная.
Речь ее сладостно льется, как поток, нежно-внятная.
С ней чтобы слиться, с улыбкой я пойду на мучения.
С ней не страшусь самой смерти и в аду пробуждения.
Сказал и тоже молчит влюбленный поэт. Ждет приговора. Только нервно оправляет плащ и золотой обруч на черных, волнистых волосах.
— Божественная слока, индусский напев! Ты, Кельсий, хорошо овладел трудным и музыкальным размером. Разрывы ритма и зияние — все на месте. Хорошо! Теперь черед за тобою, Пэмантий. Ты, кажется, тоже сказал, что написал что-то?
— Не потаю… Седеет у меня голова… А ты, как Муза, будишь в ней забытые звуки… Слушай, если приказываешь… Строк у меня немного… Не соскучишься, надеюсь.
И с легкой усмешкой, словно осмеивая себя самого, степенный, глубокоученый наставник школы Плотина, Пэмантий протяжно, просто начал:
Глаза — два солнца на твоем лице,
А солнце и луна — два глаза у природы.
И каждый заключен в законченном кольце
скользя по нем бесчисленные годы,
не ведая начал, не мысля о конце.
Глазам Вселенной и твоим очам, на что им оды?
— Великолепно. Целый философский и космический трактат в звучной, изысканной форме… «Заключен в законченном кольце»! Звучит как музыка. Как скажете, друзья-поэты? Я правильно сужу?
Молча пожал плечами Альбиций и отошел. Кельсий угодливо закивал Пэмантию:
— За тобою победа, признаю. Наши элегии далеко не так хороши и глубоки, как это короткое, вдохновенное шестистишие… Простота, сила мысли, гармония и изысканность выражений… Прекрасно, друг!
И с преувеличенным восторгом грек-хитрец пожал локоть сопернику.
— Теперь твой черед, Синезий? Или вам запрещают каноны писать размеренные, созвучные строки, посвящая их женщине? Только Богу своему поете вы хвалы?
— О нет, божественная и мудрая дева. Мы — слуги Господа, но и мы — люди. Мужи… Кровь у нас так же красна, как и у всех в молодые годы. Но… одно мне мешает писать стихи… хотя бы и в твою честь…
— Твой сан пресвитера?
— О нет, Гипатия. Премудрый, блаженный Соломон. Он стоял ближе к Господу, чем сам святейший патриарх. А кто не знает, какие вдохновенные хвалы слагал он красоте, телу дивной Суламифи… Но ты сама мне помехой.
— Я?.. Забавно. Это еще как?
— Иди сюда, поближе… узнаешь, увидишь!
Повинуясь жесту священника, Гипатия стала на самый край водоема. Конец ее плаща коснулся воды. Вся она четко отражалась в зеркале водоема, с ног до головы.
— Видишь, женщина? — спросил серьезно Синезий, с тем же вдохновенным видом, с каким призывал к очищению от греха свою паству. — Видишь это живое, несравненное создание Божие? Какой Гомер, Вергилий или Гораций может создать что-либо, достойное этого совершенства? Зачем же мне срамиться, суди сама.
— О… Да ты, аскет-христианин, самый опасный и тонкий льстец! Те трое — дети перед твоей мнимой простотою и неуклюжестью! — грозя пальцем, негромко заметила ему Гипатия и даже рассмеялась.
Альбиций сильнее нахмурился. Кельсий, стоя рядом, улыбался, кивая головой.
— Вот, вот. Поговорка и у нас есть. Ворует не резвый, а тихий котенок.
— Это ты себя сравниваешь с котом? — играя созвучием, едко кинул Альбиций. Сливая предлог с существительным, он «скотом» окрестил слишком угодливого соперника.
— Словами играешь, приятель Альбиций? Не забудь, что с… со слов не взыскивают! — скаламбурил в свой черед эллин.
— Но ослов бьют, и очень больно, порою… знаешь, Кельсий.
И с явной угрозой Альбиций шагнул вперед.
— Друзья, минутку! послушайте! Что у вас за нелепые перекоры?.. Хотите, я скажу вам басню небольшую? Пока вы оба так горячо старались доказать свое расположение ко мне, природа мне навеяла несколько образов. Хотите слушать?..
Эллин и римлянин молча кивнули, застыв на своих местах; а те, кто сидел поодаль, вскочили, сгрудились вокруг Гипатии с говором:
— Басню!.. Внимание!.. Гипатия басню нам скажет!..
В тишине внятно зазвучал голос девушки, которая начала медленно импровизировать. Быстро достав дощечку и стиль, Пэмантий стал записывать.
Гипатия, глядя в синеву неба, как бы видя там что-то, заговорила напевно, как обычно читают стихи в Александрии:
В Фессалии, где горы так велики,
два мальчика тропинкой шли… Поток
ревел внизу. Вдруг оба земляники
они в расселине увидели цветок…
Он — мой! — Нет, мой! — Заспорили ребята.
А детям, знаете, желание их — свято.
Спор, разгораясь, переходит в бой…
И оба — сорвались… исчезнули в пучине…
А падая, цветок измяли под собой.
Так зло великое в ничтожнейшей причине
скрывается порой.
И там же ягод много,
неделею поздней — созрело, налилось…
И ели все, кому пришлось
пройти случайно той дорогой…
— Как вам нравится побасенка, мои задорные и милые друзья? — обратилась, помолчав, к Альбицию и Кельсию Гипатия.
— Да как сказать? Мало утешительного… но я не позабуду басенки…
— И я! Альбиций, дай руку… Не дуйся… Мы же друзья!
— А… вижу, вы поняли меня. Я рада!..
— Гипатия, я не успел всего записать, — подойдя, сказал один из молодежи. — Не повторишь ли конец?
— Да я его сама забыла. Суть — не в словах, а в самой сути. Эта басня не вас касалась… Не стоит повторять того, что унеслось с текущим мгновением быстробегущей жизни… Ловите все прекрасное и доброе, что вам приносит новый миг жизни. И только дурное — пропускайте… гоните от своей души…
Ученик, улыбаясь, отошел.
— Да, умная и добрая у тебя дочь, Феон! — шепнул другу Плотин…
В это время голос Петра прорезал наступившее затишье. Он старался, видимо, убедить в чем-то Пэмантия, а тот слушал внимательно и изредка спокойно, веско возражал. Гипатия тоже прислушалась.
— Слишком буйна здешняя чернь, — с раздражением чеканил Петр. — Своей распущенностью она портит часто все лучшее, что мы затеваем для ее же блага. Бунт раздражает власть. И сам народ губит то, что ему творится на пользу.
— На-род? — насмешливо протянул Пэмантий. — Мы сами виноваты в своих неудачах… Наши ошибки губят дело… Зачем винить толпу? Народа — нет! Это — призрачное, наивное понятие. Есть тираны, демагоги, искатели легкой наживы. А доверчивая чернь им служит… себе во вред, ты прав!.. Откуда возьмется этот великан-народ? Где этот океан, кидающий бурные волны через стены крепостей, подмывающий троны? Жрецам нужен мир для их обрядов. Мы, умудренные наукой и опытом, только и просим мира! Мой брадобрей, сапожник, колбасник и мелочной торговец, — все они читать не умеют даже по складам… Они боятся крови, тишина — их заветная мечта. Откуда же может явиться этот таинственный дух разрушения, который ты назвал народною толпою, чернью, непокорной и буйной через меру? Старое правило: если все части равны миру, я говорю, что и целое — равно миру, а не раздору и войне…
— Народа нет? Странная мысль. И ты, Пэмантий, это говоришь? — прозвучал вопрос Гипатии.