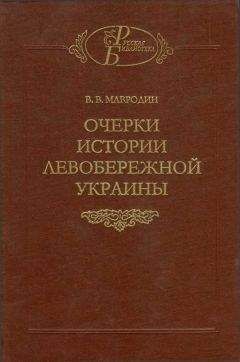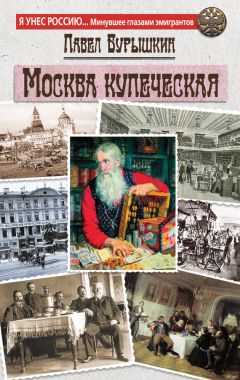Встав из-за стола, гости разбрелись кто куда: одни в диванную покурить, другие уселись в гостиной за зеленые столы. Женщины отправились на половину Дарьи Ларионовны туалеты в порядок приводить, убранство ее покоев посмотреть.
Незаметно наступил вечер. Внесли свечи. В большой зале, предназначенной для танцев, послышались звуки настраиваемых инструментов. Иван Родионович сходил туда, проверил, все ли готово, и, пошептавшись с губернаторским адъютантом, широко распахнул створчатые двери, приглашая гостей танцевать. Это был первый бал в новом доме на Яузе.
Наутро Андрей стал собираться домой, на Выксунь. Иван посмотрел, как брат укладывает с помощью неизменного Масеича дорожные баулы и коробки, и сказал:
— Закончишь с этим, загляни, пожалуйста, ко мне.
— Дело какое есть? Иль известие плохое откуда получил?
— Да так, поговорить надобно.
— Довольно говорили, чай, уж.
— Нет, я прошу тебя, зайди, будь добр, обязательно.
В сборах прошел почти весь день. Под вечер Андрей зашел в кабинет брата.
— Ну, какие у тебя дела — выкладывай.
— Я насчет Хорькова хотел с тобой поговорить.
— Какого Хорькова?
— А того, у которого ты деревеньку разорил.
— Ах, этого! — Андрей недовольно нахмурился. — Чего это тебе вздумалось о кем?
— Непотребно ведешь себя, Андрюша. Я тут насчет дворянства стараюсь, из кожи вон лезу, и умасливаю, и подмазываю где надо, а тут вдруг, как снег на голову, — прошение в Сенат поступило. Ведь по закону за такие художества тебе, знаешь, что следовало? Сибирь! Ведь ты считался простым мужиком, а он дворянин. Как ты об этом не подумал!
По мере того как Иван говорил, шея старшего брата все сильнее краснела, карие глаза еще более потемнели, по лицу пробежала гримаса гнева.
— Ну, дале!
— Горяч ты, Андрюша, бываешь, себя не помнишь. Хорошо, к тому времени, когда жалоба на тебя в Сенат пришла, я все дела почти сделал. Геральдические искания были готовы, оставалось их только засвидетельствовать. Ну, я и подъехал к Талызину. Спас он, можно сказать, своей подписью. Дворянин против дворянина в тяжбе оказался. А то грех великий мог бы быть. Понял? Уж ты наперед не делай так, пожалуйста.
Андрей вскочил с места.
— Молод ты еще, Ванька, меня учить! Думаешь, в Москве живешь, так умным стал? А на чьи деньги живешь? Кто на заводах всеми делами управляет, прибыль дает — запамятовал?
Иван также поднялся.
— Ну, знаешь, ты говори, да не заговаривайся.
— Что, правда глаза колет?
— Так? Ну, знай: не был бы мне братом родным, подождал бы я в дворянское достоинство входить, пока суд над тобой не закончился. Посмотрел бы я тогда на тебя, как бы ты выглядел!
— Вот как ты ноне заговорил! Ну хорошо, попомню я тебе это.
Иван понял, что переборщил.
— Ты пойми, что я твоей корысти ради стараюсь.
— Хороши старанья!
— Ну как же? Беду неминучую от тебя отвел, а ты злиться на меня изволишь.
— Дурак ты, Ванька. Ну чем бы твой Хорьков доказал, что у него деревенька была, а если и была, так действительно ему принадлежала?
— То есть как — чем? Бумагами, соответственно. Купчими или иными.
— Бумаги те у него в дому были. Покуда он у меня в Унже пьянствовал, Карпуха с ними в Касимов съездил да на меня и переписал. Понял? Свою деревеньку с лица земли снес, не чужую.
Помолчав, спросил:
— Ты много ль ему отступного-то дал? Хорькову-то?
— Пять тысяч ассигнациями.
— Запиши их на свой счет. Я эти деньги из твоей доли удержу.
Повернулся и вышел из комнаты.
Утром рано, не попрощавшись с братом, Андрей Родионович выехал из Москвы домой, на Выксунь. Дома его ждало радостное сердцу известие: сосланный на Велетьму Павел Ястребов отлил чугун отменной крепости, никто такого допреж не видывал.
Совсем было собрался Павел Ястребов в дальние края. Не одного его угоняли в Сибирь после барской расправы — целую компанию: Степана Башилова, Дениса Стрункина, Григория Зубова, Кузьму Мозгова и иных многих, что шли впереди к Большому дому землю у барина требовать.
Немало слез пролила ходившая на сносях Люба. Плакала, причитала о том, что угонят на край света ее милого дружка Пашеньку и не увидит он своего ребеночка, что останется младенец без отца сиротинушкой. Свекровь пыталась утешать ее, а не раз и сама поплакала. Вместе ходили они к каменному амбару, где за решеткой держали бунтовщиков, узнавали, скоро ль погонят мужиков на каторгу. От рунтов, охранявших амбар, узнали: на неделе должен быть в Муроме этап, туда и работных направят.
И точно: дня не прошло, как всех, кто содержался в амбаре, посадили со связанными за спиной руками на телеги и увезли. Без памяти упала, узнав об этом, Люба, а очнувшись, не дошла до дому: схватки родовые начались. В тесной избушке старухи Порхачихи родила она сына. А родивши, радостную весть услышала: вернулся Павел домой.
Случилось так, что в один из вечеров плотинный Лука увидел сидевшего у водосброса Баташева. Был тот, видать, на заводе и поднялся наверх, на плотину, по лесенке — подышать свежим воздухом. Увидев барина, Лука вначале оробел и хотел было скрыться куда-нибудь подальше, но Андрей Родионович услышал шаги, оглянулся и подозвал старика.
— Ну как, рыба в пруду водится? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, добавил: — Помню, по твоему совету рыба в пруд запущена. Не долгое время прошло, а развелось ее порядочно. Молодец, старик! Нужда какая будет — приходи, отблагодарю.
Лука понял, что барин настроен благодушно, и решился на такое, о чем до этого даже и не думал.
— Милости прошу, господин мой, Андрей Родионович! — молвил он, опускаясь на колени.
— Говори.
— Верни назад Пашку Ястребова, не губи его, Христа ради!
Баташев нахмурился.
— За бунтовщика просишь? Иль сам с ними заодно?
— Не бунтовщик, слышь-ка, он, барин, а самый наинужнейший для заводского дела человек. Ведь руду-то на Велетьме он открыл.
И Лука рассказал, как они, возвращаясь с пожога, нашли рудоносные места. Поведал и о том, как строил Павел самоходную лодку и как окончилась его затея неудачей. Говорил, а сам думал: «Не сносить мне своей головы, запорет меня барин за такие речи».
Выслушав несвязный рассказ Луки, Баташев сначала ничего ему не ответил и только, когда собрался уходить, молча просидев на плотине около часа, бросил коротко:
— Ладно, верну твоего Ястребова.
Лука бросился было целовать барскую руку, но тот брезгливо отстранил его и ушел.
Матрена, с которой Лука не смог не поделиться происшедшим, долго ругала своего старика. «Мало тебе, — ворчала она. — Моли бога, сам не угодил на старости лет на каторгу, так нет, лезет, куда не надо». Но в душе она была довольна тем, что так случилось: авось, и вправду сменит барин гнев на милость и возвратит Павла!
Баташев выполнил свое слово. Но держать бунтовщика у себя под боком не захотел. Приказал переселить Ястребова на Велетьму. Сказал: «Он ее нашел, пусть там и живет. А еще бунтовать вздумает — будет запорот плетьми до смерти».
Переселившись по приказу барина на Велетьму, Павел первое время жил там один, нахлебничая у знакомого горнового. На работу ходил с трудом: кожа на спине еще не зажила, и каждое движение отдавало болью. Потом постепенно поправился. А поправившись, решил, что довольно ему здесь бобыльничать, пора Любу с матерью к себе с Выксуни перевозить, благо и сынишка, названный при крещении Сергеем, стал уже ползать по полу.
Решив так, Ястребов пошел к смотрителю просить, чтобы отвели место для постройки дома. Тот поначалу покуражился, но после выставленного Павлом угощения стал сговорчивее.
— Ладно уж, стройся, — разрешил он.
Место для постройки дома дали Павлу на краю поселка, вытянувшегося длинной гусеницей вдоль речки. Наказав на Выксунь Любаше, чтобы она прислала ему с матерью пилу и топор, горновой принялся за дело. Свалил росшие на делянке деревья, аккуратно обрубил сучья, обтесал каждую лесину и скатал все их в штабель — подсыхать, а сам начал корчевать пни. Одному справиться с этим было трудно. Помог мастеровой, у которого он жил. Вскоре небольшой, в два оконца, сруб уже был поставлен на мох, а потом и жилым духом в нем запахло: Люба с детьми и свекровью переселилась с Выксуни к Павлу.
Все эти дни — и когда ехал после Мурома на Велетьму, и когда снова начал работать у домны — Ястребов мучительно думал над тем, правильно ли он поступил, открыто приняв участие в неповиновении начальству. Думы об этом не покидали его и в те свободные минуты, что выпадали во время работы у домны, и в часы, занятые сооружением нового дома. Вызваны они были словами Ефима, сказанными им перед тем, как повезли каторжан в Муром.
— Дурак ты, Пашка, — сказал старый горновой. — Я тебя учил, деньги дьячку платил за ученье, думал, грамотным станешь, в люди выйдешь. А ты… — Ефим огорченно махнул рукой, утер набежавшую слезу и отошел.