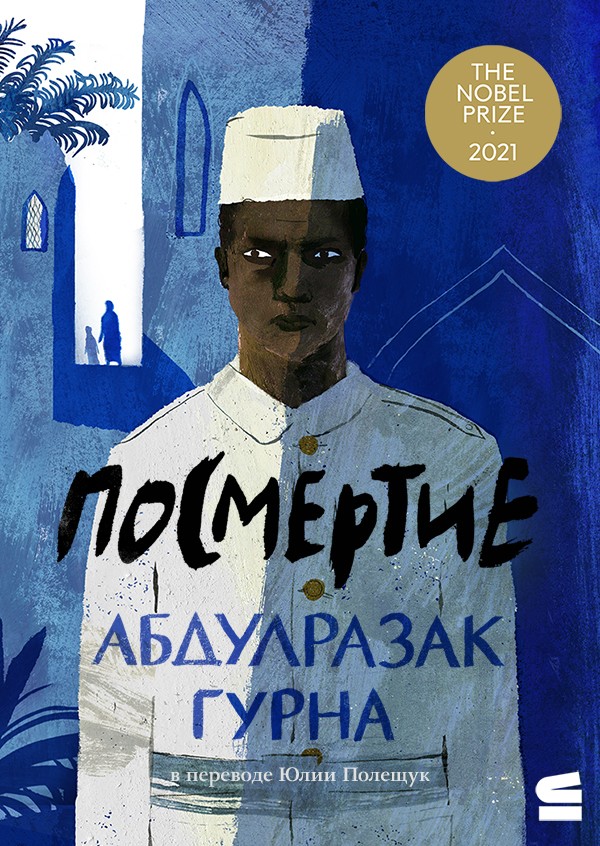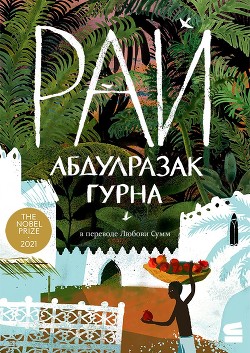жителям свойственно одно качество: ни одна мысль не задерживается у них надолго. Порой это выглядит ложью, но, по сути, это недостаток серьезности, ненадежность, небрежность в исполнении. Поэтому необходимо повторять им указания и за всем наблюдать. Только представь, если мы завтра уедем, их жизнь потечет по-старому: так зарастает буш.
Он вновь посмотрел на Хамзу, развернулся и пошел к дому. Хамза подумал, что пастор разрывается между навязанной ему необходимостью повелевать и сердечным желанием оказывать помощь. Интересно, таковы все европейские миссионеры, которые работают с отсталыми людьми вроде местных жителей?
— Офицер, который тебя изувечил, должно быть, потерял рассудок, — продолжал пастор на обратном пути. — Обер-лейтенант рассказывал мне о нем. Сказал, что он очень опытный военный, но увлекался политикой и таил обиду на немецкую знать и правящий класс. Наша страна мучительно разобщена, и теперь, после поражения в войне, недовольные изгнали кайзера и воцарился хаос. Поневоле задумаешься, что такой человек, как фельдфебель, делал в имперской армии в Восточной Африке. Может, его привлекала жестокость, и шуцтруппе предоставила ему возможность насладиться ею. Еще обер-лейтенант говорил, этот офицер был практически неуправляем, он ненавидел местных и регулярно нарушал правила, что можно с ними делать, чего нельзя, и с аскари обращался так же. То, как он поступил с тобою, по законам шуцтруппе преступление. Обер-лейтенант признался, ему показалось, фельдфебель хотел напасть на него, а ударил тебя.
Ты ведь понимаешь все, что я говорю? Ну разумеется понимаешь. Обер-лейтенант сказал, ты хорошо знаешь немецкий, я и сам слышал, как ты говоришь по-немецки. Наверное, другие офицеры-немцы сочли неправильным, что он… подружился с тобой, что он… покровительствовал тебе, как… близкому человеку. Я могу лишь догадываться, я не знаю наверняка, но делаю выводы по словам обер-лейтенанта. Наверное, они решили, что такое его поведение подрывает немецкий авторитет. Я понимаю, почему люди могут так думать. Но понимаю и то, что на войне порой возникают неожиданные отношения.
Больше пастор не сказал ни слова, пока они не вернулись в лазарет; он встал у окна, поглядывал то во двор, то на Хамзу, стараясь не встречаться с ним глазами.
— Да, обер-лейтенант оставил для тебя книгу, о которой ты спрашивал у фрау. Он предупредил меня, что ты умеешь читать, но ей я этого не сказал. Обер-лейтенант сказал, тебе не место в шуцтруппе, и теперь, понаблюдав за тобой несколько месяцев, я это понимаю. Я смотрел, как ты выздоравливал со стоическим терпением человека, наделенного умом и верой. Я не имею в виду веру в Бога. Этого я о тебе не знаю, хоть Паскаль и надеется привести тебя к Христу. Паскаль — большой романтик и мудрый человек.
Когда я спрятал книгу, я всего этого не знал и решил, что обер-лейтенант поступил опрометчиво, поддался порыву чувств, потому что считал себя ответственным за твое ранение. Вот что заставило меня думать, будто он чрезмерно тебе покровительствует, что именно эта… опека и спровоцировала жестокость фельдфебеля. Обер-лейтенант сказал, ты напоминаешь ему одного человека, которого он знал в юности; я решил, что такие слова об африканском солдате чересчур сентиментальны для немецкого офицера. Я подумал, подарок, который он оставил, слишком дорог, чтобы отдавать его простому африканцу. Но когда жена сказала, ты спросил о книге, я снова подумал о том, что сделал. Я не говорил ей, что офицер предупреждал меня, ты умеешь читать. Она поверила мне, когда я сказал: негоже такой дорогой книге валяться без присмотра — и это правда. А потом она сказала, ты спрашивал о книге, и еще сообщила, что ты умеешь читать. Я ответил, что знал это. И тогда она сказала, верни ему книгу. Ее оставили для него. Я знал, что она так скажет, потому и молчал. Я ответил, что очень сомневаюсь, сумеешь ли ты не просто прочесть, а по-настоящему понять книгу, и по-прежнему так думаю. Жена сказала, это не мое дело, и я обязан вернуть книгу законному владельцу.
Пастор улыбнулся и заключил:
— Она всегда берет надо мной верх. Пожалуй, я должен признаться: она убедила меня, что я был неправ, когда забрал книгу, вот я и решил вернуть ее тебе и объяснить, почему вообще забрал ее у тебя. Я заблуждался. Быть может, со временем ты станешь читать ее с большим удовольствием, как и ожидал обер-лейтенант.
Пастор протянул Хамзе книжечку в золотисто-черном переплете: «Musen-Almanach für das Jahr 1798» [60] Шиллера.
В вечерних сумерках их лодка обогнула волнорез, находха велел опустить парус, и они осторожно вошли в гавань. Был отлив, и находха сказал, что не уверен в фарватере. Дело было после сезона муссонов каскази [61], до того как ветры и течения поворачивают на юго-восток. В это время года сильные течения порой меняют фарватер. Лодка тяжело груженная, он не хочет сесть на мель или врезаться во что-нибудь на дне. В конце концов, посоветовавшись с экипажем, находха решил, что в темноте причаливать небезопасно, и до утра они бросили якорь на мелководье. На берегу светились огни, по причалу ходили люди, впереди и сзади них тянулись длинные тени. За причальными складами раскинулся город, небо было янтарным от заходящего солнца. Справа, подальше, тускло освещенная прибрежная дорога тянулась по мысу и чуть погодя убегала во внутреннюю часть материка. Хамза помнил это с прежних времен — дорогу, что бежала мимо дома, где он жил, как она сужалась до тонкой полоски и как потом расширялась, уходя вглубь страны.
Небо над морем было усыпано звездами, восходила огромная луна, освещая зыбь за волнорезом и белые буруны возле далекого рифа. Луна поднималась выше, заливая весь мир таинственным светом, оставляя от складов и причала с привязанными к нему лодками лишь иллюзорные очертания. К тому времени находха и трое его матросов поели риса и соленой рыбы, разделив скудный ужин с Хамзой, и легли отдыхать, растянулись бок о бок на мешках чечевицы и проса — их груза. Хамза тоже улегся рядом, слушал их разговоры и брань, их унылые песни, пронизанные тоской по дому; лодку качало, начинался прилив. Заснули они почти одновременно, несколько раз глубоко вздохнули и потом задышали неслышно. Вскоре тишину, воцарившуюся после того, как смолкли их голоса, прорезал мучительный скрип: беспокойное море тянуло и дергало лодку. Он лежал на здоровом боку, но боль все равно вернулась, и тогда он отодвинулся от спящих, отошел чуть дальше, потом и вовсе на другой конец лодки — боялся разбудить их своей бессонницей.