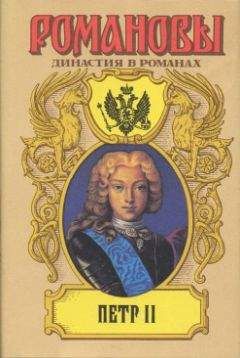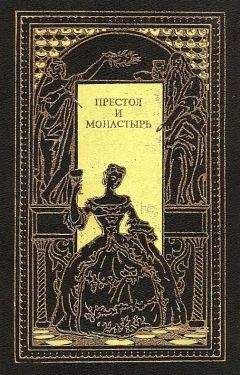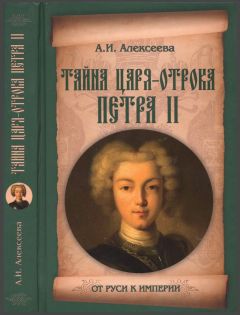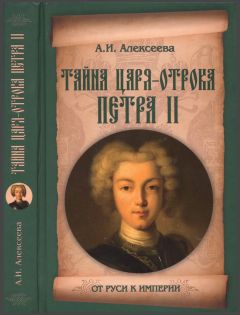Часа через два воротился домой и князь Иван Алексеевич, к крайнему удивлению жены, совершенно трезвым, в обществе офицера местного гарнизона поручика Овцына. По наружности Овцын казался молодым человеком, лет около тридцати, не красавец, но и не урод, с лицом типично русским, расплывающимся в море безбрежного добродушия. Поручик Овцын бывал точно так же частым гостем Долгоруковых. Обоих, как Тишина, так и Овцына, тянуло туда одно и то же чувство, но в проявлениях совершенно противоположных. Насколько груба была животная страсть Фролки, настолько, наоборот, было идеально платоническое обожание поручика. Странные бывают явления природы! Овцын, сын отпущенника, а впоследствии кабацкого целовальника, выросший в среде развратных и порочных примеров, не замарался липнувшею к нему со всех сторон грязью, напротив, вдался в совершенно противоположное — в какое-то возвышенное миросозерцание.
Княжна Катерина Алексеевна казалась Овцыну ангелом, которому должны были бы все поклоняться, в котором не было, по его глубокому убеждению, ни одной человеческой слабости. Конечно, такое беззаветное обожание и безграничная преданность не могли же не нравиться молодой девушке, и она полюбила его, насколько могло полюбить её преждевременно охладевшее и тщеславное сердце.
Князь Иван при входе не заметил никакой перемены в сестре, на которую, впрочем, он никогда не обращал внимания, но поручик инстинктивно, с чуткостью утончённых нервов угадал, что с его идолом случилось что-то необычное, требовавшее его участия. Поняв значительный взгляд, который княжна бросила ему, выходя из горницы, он, обменявшись несколькими словами, поспешил проститься и уйти. На задворке, подле той же скамейки, ждала его девушка.
— Дмитрий Иваныч, ты любил меня? — прямо спросила его девушка, кладя на его плечо свою нежную руку, казавшуюся ещё нежнее от грубого холщового рукава. — Ты не потерпишь моей обиды?
Овцын не отвечал, да и что мог бы он сказать, когда весь он сам готов был за неё в огонь и в воду.
— Меня, мой дорогой, обидел Фролка… хотел меня сделать своею любовницей… Защити меня. Брату не говори, он или взбесится, или на меня же накинется.
— Изломаю его, Катерина Алексеевна, потрохов не оставлю-с, — наивно высказал Овцын, не подозревая возможности рисоваться.
— Нет, Дмитрий, я не хочу этого. Ты только постращай его… Сохрани Бог, совершится убийство… Тогда и нам не сносить голов своих. Хорошо, Дмитрий, согласен? Только поучи!
— Хорошо-с. Как велите, так и будет.
Княжна с кокетством, врождённым каждой женщине и не покидающим её во всяком положении, протянула свою руку к губам молодого человека и быстро взбежала на крыльцо.
Овцын воротился домой и стал обдумывать средства наказать Тишина и отвадить его от любезничанья с княжной. Сознавая своё физическое бессилие, он посвятил в свою тайну двух своих друзей, казачьего атамана Лихачёва и боярского сына Кашперова, вечного охотника подраться и побуянить. На общем совещании было решено, не откладывая, поколотить Фролку в науку.
Сговорившись в подробностях, они стали караулить Тишина и в тот же день вечером словили его на каком-то задворке одной из берёзовских красавиц, щедро наградили плюхами, помолотили, как зрелый сноп, и отпустили едва живого. Избитый подьячий прохворал несколько дней, а потом, оправившись, быстро собрался домой в Тобольск. Он хорошо понимал, за что его чуть не убили, и твёрдо решил отомстить сиятельному семейству.
Прибыв в Тобольск, Тишин сказал за собой государево «слово и дело» и затем подал сибирскому губернатору язвительный донос, в котором подробно и с различными украшениями описал «зловредительные поступки сосланных Долгоруковых и укрывательство, чинимое им от майора Петрова и берёзовского воеводы Бобровского». Губернатор отослал донос в Петербург, откуда немедленно сделано было распоряжение о посылке для расследования в Берёзов Ушакова, капитана сибирского гарнизона, родственника начальника Тайной канцелярии.
Прошла зима. Тишин не являлся, и об нём уже забыли берёзовские обыватели, забыла и семья Долгоруковых. Радовалась Катерина Алексеевна, избавясь от животного нахальства пьяного ловеласа, радовался и гарнизонный поручик, которого сердечные дела шли всё по-прежнему, в сентиментальном обмене взглядами и вздохами. Княжна видимо отличала его: позволяла целовать свои руки, позволяла пожатия их, но этими дерзновениями всё и ограничивалось; да, впрочем, о дальнейшем Дмитрий Иванович никогда не мечтал. Вспоминала лишь иногда о Фролке-подьячем Наталья Борисовна, и то про себя, как будто ожидая чего-то, как будто томясь от предвидевшегося будущего горя.
Но вот с начала весны 1738 года опальная семья Долгоруковых встрепенулась. В Берёзов вместе с вестниками оживления природы приехал капитан Ушаков.
— Государыня по милосердию своему вспоминала о несчастных, — говорил он по приезде в Берёзов начальным и подначальным людям, — и послала меня разузнать, какое житьё-бытьё Долгоруковых, не нуждаются ли они в чём-нибудь, не терпят ли утеснений от приставов.
Не довольствуясь одними расспросами, Ушаков стал во всё входить сам, познакомился с опальными и старался снискать их расположение.
Обрадованные неожиданной милостью, все начальные и подначальные люди наперерыв спешили успокоить сердобольного капитана, убедить его, что житьё опальных вовсе не так тяжело, что им не делается никаких утеснений и что они пользуются по возможности свободой. Радовались Долгоруковы, но теперь только одна Наталья Борисовна не разделяла общих радостных надежд, вспоминала о Тишине, находила какую-то связь между ним и Ушаковым и горячо молила Бога о спасении.
Проблагодушествовав желанным гостем, капитан уехал, обнадёжив в добром будущем. И действительно, недолго спустя после его отъезда получен был приказ, но только приказ недобрый. Вследствие этого нового распоряжения князя Ивана отделили от семьи и посадили в сырую, тесную землянку, около которой стоял часовой, не допускавший к нему никого. Содержание узника определилось самое суровое. Пищу приносили только раз в сутки, и то небольшой кусок чёрного хлеба да кружку испорченной воды. Сбылись предчувствия Натальи Борисовны: Тишин и Ушаков недаром ели их хлеб-соль…
Вместе с несчастьем вырастало героическое самоотвержение жены князя Ивана. По целым часам валялась она — дочь фельдмаршала Шереметева — у ног часовых, обливая их слезами, и наконец достигла-таки того, что ей позволяли по ночам подходить к землянке, приносить заключённому ужин и утешать несчастного. Это были их последние свидания.
Прошло несколько месяцев; в конце лета выехали из Берёзова вся семья Долгоруковых и все, кто принимал в них участие. И ныне ещё старики рассказывают, со слов своих отцов, как в одну из тёмных дождливых ночей явился у Берёзова таинственный баркас с неизвестными людьми, которые захватили князя Ивана, его братьев Николая и Александра, Бобровского, майора Петрова, Овцына, трёх священников, дьякона, прислугу Долгоруковых, и в ту же ночь отправился — в Тобольск, как впоследствии оказалось.
Между тем в Тобольске была образована, для расследования действий князя Ивана, особая комиссия, под председательством того же капитана Ушакова, из особо назначенных членов, в числе которых находился поручик Василий Суворов, отец знаменитого рымникского героя. По распоряжению этой комиссии привезённых из Берёзова рассадили по тюрьмам. Самое тяжкое содержание выпало на долю опять-таки князя Ивана. Его заковали в ручные и ножные кандалы и приковали к столбу так, что он не мог сделать почти никакого движения. Начались допросы.
Все обвинения заключались в доносе Тишина и в донесениях Ушакова, то есть относились к вредительным и злым выражениям, поносящим честь государыни императрицы и цесаревны Елизаветы Петровны, к высказываемому под пьяную руку князем Иваном намерению во время заговора заключить цесаревну в монастырь. Затем выступили вопросы о подложном составлении духовной от имени Петра II, о житье в Берёзове, о подарках Петрову и о сохранившихся патентах. На первом допросе князь Иван отвечал обдумчиво и осторожно, но не так осторожен был его младший брат Александр, насказавший на него под угрозой дыбы, а ещё более под влиянием обильно подносимой ему следователями водки много были и небылицы [37]. На дальнейших допросах с пыткой изнурённый скудным питанием и бесчеловечным содержанием князь Иван совершенно сломался. Он подтвердил данное и при первом допросе чистосердечное признание в участии по составлению духовной и потом наговорил на себя всё, чего только желали инквизиторы.
Добытые показания комиссия представила в Петербург, откуда последовало распоряжение перевезти Николая и Александра Долгоруковых в Вологду, а князя Ивана в Шлиссельбург, куда тоже перевезли и прочих князей Долгоруковых: Василия Лукича, Ивана Григорьевича и Сергея Григорьевича. Участь берёзовских обывателей, обвиняемых в послаблениях и в участии к Долгоруковым, решилась скоро. Майору Петрову в июне 1739 года отсекли голову, священников били кнутами и разослали по сибирским городам; из них более пострадал священник Рождественской церкви Фёдор Кузнецов, духовник князя Ивана; его били кнутом нещаднее и, кроме того, вырезали ноздри; офицеров гарнизонных разжаловали в рядовые и разослали по разным сибирским полкам, а боярского сына Кашперова и атамана Лихачёва били батогами и сослали на службу в Оренбург. Оставалась нерешённой дольше других участь самого князя Ивана… О нём хлопотали и заботились высокопоставленные лица того времени: два Андрея Ивановича [38] и новый кабинет-министр Артём Петрович Волынский.