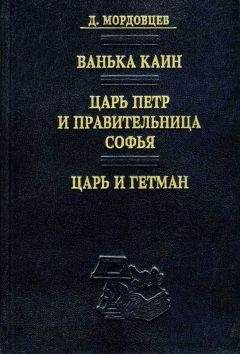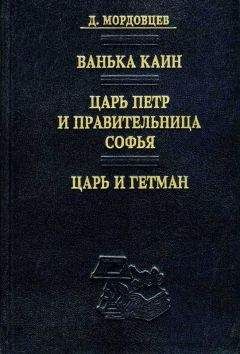Палий заплакал. Чужое горе, и притом такое, было для него жесточе его собственного.
Он не знал, что отвечать на эти вопросы своего безумного друга, и молчал, не отнимая от глаз «хусточки», которую подала ему жена.
— Так ты, полковник Семен Иванович Палий, признаешь сего человека, — спросил воеводский товарищ, подходя к плачущему старику и кладя ему на плечо свою жирную с сердоликовым в алтын величиною на указательном пальце и красную руку.
Палий отнял от глаз платок и, казалось, не понимал, что ему говорили. Глаза были заплаканы.
— Признаешь сего человека? — повторил воеводский товарищ, показывая головою на странного старика.
— Признаю, боярин, — тихо отвечал Палий.
— Кто ж он таков есть имянем и знанием?
— Бывый малороссийский гетман Иоанн Самуйлович.
— Как бывый, Семене! — перебил безумец. — Божою милостию Иоанн Самуйлович, Малороссии обеих стран Днепра и Запорогов великий гетман.
— Гетман, точно великий гетман, — повторил Палий, горестно качая головой.
— Он был сослан в Сибирь? — продолжал воеводский товарищ.
— Сюда, в Сибирь, а в какой город оной — то мне неведомо, боярин.
— А давно ли то было?
— Давно… о вельми давно… Я тогда был еще в Запорогах.
— То было року тысяща шестьсот восемьдесят седьмого, — добавила Палииха.
— О! Девятый — на — десять год уже — давно, — говорил воеводский товарищ, качая головой. — Но неведомо, как он попал сюда.
Потом, обращаясь к самому Самойловичу, он спросил:
— Господин гетман, в каком городе находился ты в ссылке?
— Как в ссылке! Кто меня ссылал! — отвечал тот гордо. — Меня еще недавно государыня царевна София Алексиевна грамотою похваляла.
— А где ты был теперь? — продолжал воеводский товарищ.
— Мы с боярином князь Василием Васильевичем Голицыным в Крым ходили.
— А ныне где твоя милость обретается?
— Ныне… ныне я не знаю… Вчера мы у Великому Лузи были, и я сына Грицька выслал на той бок Днепра до Сечи з войском, — бормотал несчастный, силясь что-то припомнить, — вероятно то, что произошло после этого рокового «вчера» — и не мог, на этом роковом дне обрывалась нитка его памяти и его рассудка.
Только Палий и его жена знали события этого рокового дня, следовавшего за роковым «вчера». Несколько часов назад еще, сегодня же, Палий, грустно качая головой, слушал, как пани-матка через свои огромные очки нараспев читала «летописца козацкого».
«И як прийшло войско малороссийское на Кичету, и там старшина козацкая — обозный, асаул и писарь войсковый Иван Мазепа и иные преложеные, — видячи непорядок гетманский у войску и кривды козацкия, же великие драчи и утеснения арендами, написали челобитную до их царских величеств, выписавши усе кривды свои и людские и зневагу, якую мели от сынов гетманских, которых он постановлял полковниками, и подали боярину Василию Василиевичу Голицыну, просячи позволения переменити гетмана Ивана Самуйловича, которую зараз принявши, боярин скорым гонцом послал на Москву до их царских величеств. На которую челобитную прийшел указ от их царских величеств и войско застал на Коломаце, где боярин ознаймил старшине козацкой и нарадившися з собою, оточили сторожею доброю гетмана на ночь; а на светанню прийшовши старшина козацкая до церкви, и узяли гетмана з бесчестием, ударивши, и отдали Москве. И зараз сторожа московская, усадивши его на простые колеса московские, а сына гетманского Якова на коницю худую охляп, без седла, и проводили до московского табору, до боярина, и там узяли за сторожу крепкую… И так того часу скончалося гетманство Ивана Самуйловича, поповича, и сынов его, который на уряде гетманства роков пятнадцать зоставал и месяц…»
— Видишь сам, боярин, в каком он несчастном состоянии ума? — тихо спросил Палий, показывая на Самойловича.
— Вижу, полковник, вижу — не в своем уме.
— Что ж вы с ним учините?
— Сам не знаю… Отпишу обо всем на Москву — буду ждать указу.
— Так, так… А как он попал сюда?
— Найден бекетами и доставлен в Енисейск.
— А далеко найден и как?
— Верст за сто, а то и более будет… Сказывал бекетным, что заблудился якобы у Запорожья и ищет свое войско…
Палий грустно покачал головой. А Самойлович, задумчиво вертя в руках чекмарь — воображаемую гетманскую булаву, бормотал про себя:
— Одна надия у меня на писаря, на Мазепу… разумна и правдива голова… Мы с ним у шоры уберем прокляту Москву…
— А поки до указу, боярин, отдай его мне на поруки, — по-прежнему тихо сказал Палий.
— Вин, небога, може, давно голодный, — пояснила Палииха.
— Так, так, — соглашался боярин, — по человечеству жаль его.
— Коли не жаль! Подивиться на его…
А несчастный продолжал бормотать, витая своим безумием в прошлом:
— Мазепа и сынов моих добру и письму научил… Мазепа и се и те… О! Голова Соломоновой мудрости!..
— Так вы его одпустите до нас, господин боярин? — не отставала пани-матка.
— Отпущаю, матушка, отпущаю: поберегите его…
— Мы доглядимо, никуды не пустимо.
— Да и куда ему, матушка, отсель уйтить! Сторонка не близкая…
— Так, де вже ему уходить! Хиба в домовину…
— Ну, матушка, до домовины ему далеко — поди тысяч шесть верст будет.
Пани-матка улыбнулась.
— Домовина — се гроб по-нашему, — сказала она.
— А! — удивился боярин. — Вот язык чудной! Гроб у них домовина… Да оно и вправду, матушка, — гроб есть наша вечная домовина…
Самойловича увели наконец, прибегнув к маленькому обману. Палий показал вид, что перед ним настоящий гетман и постоянно обращался к нему со словами: «пане гетьмане», «ясневельможный», «батьку козацький» и т. п. Он поддерживал в нем его тихое, спокойное заблуждение, что они теперь находятся в Украине, на Днепре, недалеко от Запорожской Сечи, а именно на хуторе у Палия. На Енисей безумец смотрел как на Днепр…
— А, Днипро батьку, здоров був! — приветствовал он голубую, широкую ленту воды при виде Енисея, когда подходил к невольному жилью Палия. — Ото добре будет, как поплывут тут чайки козацкие да в море выйдут! Они там будут Царьград мушкетным дымом окуривать, а мы тут у Крыму орде чосу задамо.
— Задамо, задамо, — подтверждал Палий, грустно опуская седую голову.
Они вошли в избу.
— Вот и куринь мой, пане гетьмане, — говорил Палий.
— Добрый, добрый куринь, — бормотал безумец. Ему представили Симашка и Охрима.
— А Мазепа где? — спохватился безумный.
Палий смешался было — вопрос застал его врасплох. Но пани-матка выручила своей находчивостью.
— Мазепа универсалы пише, пане гетьмане, — сказала она.
— А! Универсалы… добре, добре… У Мазепы перо соловьиное… у… мастер писать, собачий сын!.. На тот час, как мы с Дорошенком на перах войну вели, Мазепа золото был для мене: такого, було, спотыкача у листу надряна, що у Дорошенка, було, аж шкура заболит… «Ознаймучи», було, вверне, да «здирства вшеляки», да латинською речию, мов перцем, пересыплет — так у вражого сына Дорошенка од такого листа аж очи рогом… Золото, а не писарь Мазепа…
Палий заметил, что в памяти несчастного прошлое сохранилось нетронутым и представлялось в последовательном и логическом порядке; в картинах прошлого воскресал и потерянный рассудок его, сказывалась и ясность представлений; но в настоящем был хаос и полное забвение всего, что происходило уже за пределами этого светлого круга. Старики вспомнили даже, как они юношами учились в киевской коллегии и как несмотря на дружбу, на глубокую, можно сказать, взаимную привязанность, они были непримиримыми врагами там, где дело касалось первенства: и тот и другой хотел быть первым в коллегии и потом на всей Украине. Будучи оба одарены богатыми способностями, они быстро усваивали все, что касалось знания, обогащения памяти научными сведениями, — и вечно воевали из-за первого места в классе.
— Цесарь, Цесарь, собачий сын, этот Мазепа, — бормотал Самойлович, который в ссылке, по-видимому, совсем усвоил великорусскую речь и все на нее сбивался: — Настоящий Цесарь — veni, vidi, vici…
— А помнишь, друже, как мы с тобою в коллегии хотели оба бути цесарями — наводил Палий на прошлое.
— Как не помнишь!.. «Лучше быть первым на Украине, чем вторым за партою в коллегии» — это ты ж выгадал, — задумчиво улыбался Самойлович, не расставаясь со своим чекмарем.
— Я, я… Только не удалось мне быть первым на Украине, — продолжал Палий, тоже впадая в русскую речь. — А вот ты был первым…
— Как был! Я и поднесь первым остаюсь: Дорошенка отправил туда, где козам рога правят.
Палий спохватился, поняв свою ошибку.
— Так, так, точно, первый ты на Украине, пане гетьмане…
— Ты… признайся теперь, Семене, с досады на меня и на тот бок Днепра ушел? А? — лукаво допрашивал безумец. — Не осилив Иоанна Самуйловича?..