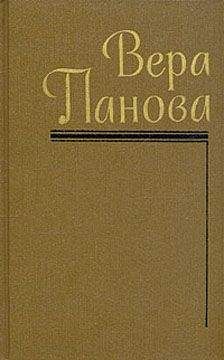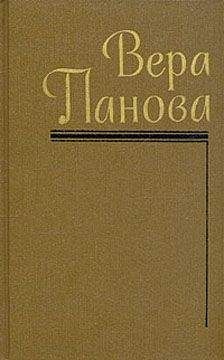Еще ему предстояло долгое горькое сиротство. Его лишат всех, кого он любит. Его будут забывать кормить и переменять на нем рубашонку. В его комнату ворвутся среди ночи, рыча и топоча, взъяренные бояре со стрельцами, и он никого от них не сможет защитить, сколько бы ни молил; будет трястись, забившись с головой под одеяло.
В нем будут разжигать низкие, зверские свойства. Его именем будут твориться государственные дела, но Иван Шуйский, говоря с ним, в упоении наглой силы и безнаказанности положит толстую ногу в сапоге на эту самую постель, на которой кончается Василий Иванович. И все злодейское тоже будет делаться его именем, словно бы готовя мир к тому, что воспоследует.
Этот мальчик, перепуганно глядящий из угла, темная судьба страны, превзойдет всех своих предков в истреблении людей и разорении городов. Гнусное мучительство будет сладчайшей его забавой. Он сметет с лица земли почти всех, кто находится здесь в комнате, и детей их, и внуков. И по его стопам придет в Россию небывалая страшная Смута.
* * *– Кто умирает?
– Агафья умирает. Агафья, соседка, свойственница наша. Первый раз рожала – как орех разгрызла, а ноне вторые сутки разродиться не может, беда! Через улицу слышно…
– Три алтына да три алтына, шесть алтын. Да еще три алтына.
– Откуда еще?
– Да ты сколько брал?
– Ну?
– Три алтына брал?
– Ну.
– Еще три брал?
– Ну.
– Три алтына да три алтына, шесть алтын.
– Шесть.
– Да еще три.
– Да какие еще-то?
– А рост?
– Милая моя. Как же я тебя ждал. Ты бы знала.
– Ох, что ты…
– Всего меня вымотало, измочалило, ждать тебя…
– Ох, да что ты…
– Кто я есть? Я служитель божий! Должон служить! А они говорят – мест нет. Как так мест нет! Знать ничего не знаю, подавайте мне место!
– Тише ты!
– Что значит тише! Я митрополиту в ноги: имей, говорю, милосердие, отче! Дай служить! Негде, говорит, тебе служить: во храмах переполнение служителей. Да чем же, говорю, мне кормиться с попадьей и детьми? Когда я ничего не умею, кроме как Богу служить! А он говорит – ступай, говорит, Илейка, у меня, говорит, поважней дела…
– Вот так дом. Так ворота… А вот тут к забору прилегает сарайчик.
– Дальше.
– Через забор. И на крышу сарайчика…
– А пес?
– Пса – ножиком…
– А люди выскочат?
– Людей – ножиком…
– Храбрый ты. А они нас на вилы…
– У Курчатовых бабка померла прошлую пятницу. До сих пор сварятся.
– А чего?
– Духовной не оставила, поделить не могут.
– Чего там делить-то после бабки? Они ее при жизни кругом обобрали.
– Не скажи. Целый сундук оставила. Спорки, подволоки, лоскуты всякие. Особенно один есть спорок суконный – обе снохи в него вцепились, и не расцепить.
– Удивляюсь людям. Сороковин не могут дождаться, чтоб проводить старуху на покой благообразно.
– Старуха тоже хороша. Зачем духовной не оставила? Распорядилась бы то-то тому, то-то тому. Какой спорок в чьи руки. Тогда и молодицы не грешили бы.
– Три алтына дал тебе да погодя еще три.
– Ну.
– С какой бы стати я их тебе задаром давал!
– Больно рост большой.
– Да ты год держал. Совсем не большой рост! Ты б еще два года держал.
– Нет, так дела не будет. Послушай меня. Пса надо брать отравой. В доме кого-нибудь надо иметь, чтоб помог. Там среди служанок подходящей девчонки нет ли?
– Всё ли пооткрывали? Может, где что забыли?
– Всё чисто пооткрывали, сама весь дом обошла, все двери настежь, и сундуки, и лари, а она все мучается, вот горе-то.
– А киот-то, киот!
– Киот забыли открыть!
– Киот откройте! Ну вот. Теперь разродится наша Агафья.
– Я отец Илия, а он мне: Илейка! Сам он Данилка, когда так!
– Выпил ты много, отец Илия.
– Данилка, Данилка, красное рыло, вот ты кто, слышишь?!
– Да цыц! Разбушевался…
– Он, Данилка, митрополит… слушай, хи-хи, я тебе расскажу, нагнись. Он сам своей здоровенной морды стыдится. Он перед богослужением – ниже нагнись! – серным дымом дышит, хи-хи, чтоб выйти с бледным ликом.
– Ну да!
– Вот крест святой! Серным дымом, хи-хи-хи!
– Хи-хи-хи-хи!
– Хи-хи-хи-хи-хи!
– Не стыдись, моя березонька. Моя ясная. Это уж мы сотворёны так. Это от Бога, милая. Открой свои глазоньки, посмотри на меня…
– Где я возьму тебе еще три алтына? Ну ты подумай: где мне взять?
– Антош, а Антош! Проснись, родной, сослужи службу. Антош, Антош! Что мычишь-то, человек кончается, вставай, доспишь после! Добежи до Покровки, ну что ж, что темно, а ты расстарайся, доберись, сказано тебе – человек погибает. Спросишь там дом Варвары Чернавы, повивальной бабушки. У ней пояс есть из буйволовой кожи, буйволовой, буйвола не знаешь? Сей же час сюда чтоб с этим поясом шла. Без нее не вертайся, приведешь ее, и пояс чтоб был, без пояса и не приходите, и скорей, главное, совсем Агафье нашей плохо. Уж и кричать не может, хрипит только. Агафьюшка, свет, на кого ты нас покидаешь… Ну бежи, сынок, да все чтоб как я приказала! Этот пояс, вы знайте, помогает очень. Пошепчет над ним Чернава, наденет на роженицу, и раз, два, три, готово дело. А мы ее покамест в укроп ногами. Тоже польза бывает. Несите сюда укроп. Ничего, Агафьюшка, ничего, что горячо, ты надейся, ты старайся…
– Курчатовская бабка была очень хорошего роду. Ее родитель в рядах богатую лавку имел. Замуж шла – восемь шуб ей справили. Кабы не пожар. После пожара они захудали.
– Милая моя…
– Милый мой…
– Поцелуй…
– Чего это бояре нынче целый день взад-вперед скакали, и в санях, и верхами?
– А кто их знает. Надо им, вот и скакали.
– Великий князь, что ли, болеет, говорят.
– Говорят.
– Тоже ведь помереть может, а?
– Другой найдется.
– За этим не станет. О-о-о, раззевалась, мои матушки. Гашу светильце, что ли. Спать пора.
– Милый мой…
– Милая моя…
– Поцелуй…
Еще звезды над Москвой, но уже потянулись утренние дымы из труб и волоковых окошек.
– Кто умирает?
– А никто не умирает. Разгрызла орех наша Агафья. Пояс помог из буйволовой кожи.
– Не пояс, а милость Господня помогла.
– Там что бы ни помогло, а мальчик такой ровненький, да такой тяжеленький, да все кушать просит. И Агафья попросила: исть, говорит, мне давайте.
– Ожила, значит.
– Ожила! Топи, Аннушка, что это ты запозднилась, уж скоро развидняться начнет. Топи, пошевеливайся. Спеку перепечку, снесу на ребеночка.