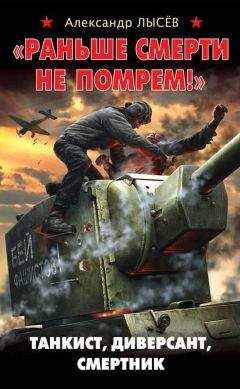Ознакомительная версия.
Отец Георгий продолжал служить в станичном храме, читать проповеди и учить детей в церковно-приходской школе. Видимо, за это его и расстреляли летом двадцатого, когда большевики пришли в третий раз. Как оказалось впоследствии, пришли надолго…
Поздней осенью, несколько месяцев проблуждав по родному краю, где все еще было неспокойно, Иван Барсуков трясся на подводе, которую понуро тащила худющая деревенская кляча. Человек в кожаной куртке и сдвинутой на затылок папахе с красной полосой наискось, положив руку Ивану на плечо, уже битый час бодро вещал о том, что теперь советская власть победила окончательно. Он взахлеб рассказывал, какая замечательная жизнь ждет таких вот беспризорников, как подобранный ими Ваня. Мальчик молчал, понуро смотря в грязь под колесами телеги. Он ненавидел человека, который говорил. Кожаная куртка напоминала о тех, кто убил деда. Рука оратора жгла ему плечо. Но, вспоминая разговоры с отцом Георгием, он продолжал сосредоточенно молчать. Его везли в детскую трудовую коммуну.
— Что, хлебнул лиха, парень? — сплюнув в ладонь и затушив в ней самокрутку, окликнул мальчика пожилой седоусый солдат-возничий в выцветшей защитной фуражке.
Ваня скользнул по нему взглядом, чуть задержался на темной отметине на околыше, оставшейся от снятой когда-то кокарды. Отвернулся, так и не проронив ни слова.
— Можешь не отвечать, — горько усмехнулся солдат. — Вижу, что досталось…
В коммуне, а проще говоря, детдоме уже хорошо научившийся разбираться в том, что творится вокруг, он скрыл свое казачье происхождение и назвался иногородним, проживавшим на землях области. Однако четко проговорил:
— Иван Евграфов Барсуков.
И, вытянув худую шею, заглянул в большую канцелярскую книгу — правильно ли все записали. Убедившись, что все правильно, сделал шаг назад и замер с картузом в руках.
— Ну пойдем, Иван Евграфович, — сказали ему и повели на внутренний двор.
Толковый и постоянно стремившийся к новым знаниям мальчик вскоре стал одним из лучших воспитанников. Правда, он был мало заметен на общественном поприще, большую часть времени отдавая получению именно образования. Ему неоднократно ставили на вид необходимость подтянуть политическую подготовку. Иван всякий раз делал такое каменное лицо, что его, слегка пожурив, оставляли в покое. Тем более что он был гордостью всего учебного заведения по техническим дисциплинам. Прекрасно ориентировавшийся в точных науках, после окончания семилетки Барсуков без труда поступил в один из техникумов губернского управления профессионально-технического образования. Однако, как оказалось, его привлекала отнюдь не мирная стезя. После окончания техникума Иван Барсуков оказался в стрелково-артиллерийской школе. Школа располагалась в старинном волжском городе Симбирске, переименованном — как почти все сплошь и рядом в Советской России — к тому времени в Ульяновск. Вскоре располагавшееся в здании бывшего Симбирского кадетского корпуса военно-учебное заведение было переформировано в бронетанковую школу. Иван Барсуков выпустился одним из первых уже в качестве командира-танкиста. Именно тогда он понял раз и навсегда, что танки — это его призвание.
— Отлично у вас получается, — в очередной раз отметило успехи Ивана начальство.
— Наследственность хорошая, — с едва уловимой усмешкой отвечал Барсуков.
Начальство листало его личное дело и недоуменно пожимало плечами. Во избежание неприятностей Барсуков привычно отказался от освещения подробностей своей биографии. В 1936 году вышел приказ наркома обороны Ворошилова о создании казачьих кавалерийских дивизий. До этого казакам было запрещено служить в Красной армии, как чуждому рабочим и крестьянам элементу. Барсуков как-то в одиночестве про себя еще раз перечитал приказ, саркастически хмыкнул и в очередной раз благополучно промолчал о своем происхождении.
Во времена разгула репрессий в армии он часто вспоминал деда и всегда носил в кармане галифе заряженный браунинг кроме штатного ТТ в кобуре. Он был готов к любому повороту в своей судьбе. Конечно, предугадать наперед ничего было нельзя. Барсуков твердо знал лишь одно — если за ним придут, он будет стрелять. Как это сделал в свое время дед. Лейтенант Барсуков, как бы он ни относился ко многим людям вокруг себя — а они были достойны, надо признаться, самого разного отношения, — так вот, лейтенант Барсуков всегда удивлялся, отчего люди эти, опытные, еще сильные, прошедшие горнило гражданской войны, на которой они принимали смелые и самостоятельные решения, практически не оказывали ни малейшего сопротивления, когда их приходили арестовывать. Неужели и вправду верили, что т а м разберутся? Или за годы советской власти в людях окончательно была вытравлена всякая способность к здравой оценке происходящего вокруг и к принятию самостоятельных решений, даже если от этих решений зависела твоя собственная жизнь? Если так, то ситуация выглядела совсем удручающим образом. А еще было очень много доносов. Их писали сами друг на друга самые обычные с виду советские граждане. И делали они это далеко не всегда по идеологическим причинам. Зачастую поводы написать донос на ближнего своего были совершенно шкурные: желание получить его должность, или жилые метры в коммунальной квартире, или просто личная обида на бытовой почве…
Как-то в совсем узком кругу один из сослуживцев под рюмку водки и патефон высказался задумчиво:
— И жить здесь невозможно, и жить не здесь невозможно тоже…
Ему ответил один Барсуков:
— А мы права не имеем не здесь жить.
Остальные присутствовавшие заметно побледнели и, испуганно переглядываясь, срочно засобирались прочь. Когда танковый батальон, в котором служил Барсуков, вернулся с трехдневных полевых маневров, столь откровенно высказавшийся сослуживец уже бесследно исчез. Возможно, за ним мог последовать и Барсуков, не подоспей ему перевод в другую часть…
В самом конце тридцатых годов он женился. И сразу же сполна ощутил, каково это — быть в ответе не только за себя, но еще и за своих близких. Перед финской войной у Барсуковых родилась дочь, а в начале сорок первого года — сын. Перед отъездом к месту службы на западную границу ему приснился дед. Никогда не снился, а тут вдруг явился, как живой, чинно и благообразно, в мундире с вахмистерскими погонами. Постоял-постоял, да и ушел, так ничего и не сказав. В воздухе пахло военной грозой, и Барсуков на тот случай, если ему будет не суждено вернуться, написал карандашом на листке бумаги название станицы и хутора, с которого он был родом. Передал листок жене. Она быстро пробежала записку глазами, все поняла и, не сказав ни слова, молча кивнула, спрятав бумагу на дно шкатулки. Почти такой же, что была когда-то у бабки и где хранились фронтовые письма отца. Капитан Барсуков уезжал один, его семья пока что вынужденно задержалась в средней полосе России. Как оказалось, к счастью — совсем скоро разразилась война…
Экипаж капитана Барсукова в полном составе сидел за длинным столом в просторной горнице и уплетал вареную картошку с хлебом. На столе дымился еще один полный чугунок с картошкой, вокруг которого были выставлены глиняные кринки с молоком.
— Ешьте и уходите, — говорил хозяин, бросая тревожные взгляды то на танкистов, то на выходящее в сторону деревенского проулка окно, уже чуть подернувшееся вечерними сумерками.
— Сеновал у вас хороший, — без обиняков намекнул наводчик, отламывая себе от краюхи еще один здоровенный кусок и протягивая руку к кринке с молоком. — А ночами уже холодает…
— И банька во дворе… — добавил заряжающий выжидательно.
— Вот что, други мои, — навалился на стол хозяин. — Я себя под монастырь подвести не дам. У меня семья, да еще и обчество ответственность наложило.
— Это кто ж тебе и чего наложил? — хмыкнул наводчик.
— А ты не смейся, не смейся, — проговорил мужик. Было ему хорошо лет за сорок. Лежавшие на столе большие узловатые руки то и дело сжимались в кулаки и разжимались обратно. Он нервно постукивал ими о выскобленную до белизны поверхность стола. — Вот мы с тобой, смешливый мой, сейчас разговоры разговариваем. А потом вас сдует, а меня за эти разговоры на воротах вздернут.
Коломейцев допил молоко и поставил пустую кружку на стол.
— Не беспокойтесь, мы уйдем, — произнес Барсуков.
— А я беспокоюсь, — живо обернулся к нему мужик. — Ох как беспокоюсь!
Пока танкисты ели, хозяин рассказывал о происходившем в их местах в последнее время. Он не столько жаловался, сколько, пожалуй, делился пережитым и одолевавшими его заботами. Коломейцев, отламывая куски хлеба и отправляя их себе в рот, смотрел на крестьянина и внимательно его слушал.
События в здешних местах разворачивались нешуточные. Немцы пришли еще в начале июля, делился своими заботами и тяготами деревенский житель. Боев в их районе не было — Красная армия спешно отступила на этом участке фронта. Армейские части германцев вели себя вполне прилично, ничего худого про них сказать было нельзя — что правда, то правда. Солдаты катали ребятишек на грузовиках и угощали конфетами. Никто не безобразничал и местное население не обижал. Из инцидентов был один-единственный, да и тот пустяшный: из двух зашедших к хозяину немцев тот, что помоложе, сунулся было в печку за чугунком картошки. Второй — постарше — с размаху расквасил своему напарнику физиономию и извинился за то, что его товарищ хотел взять продукты без спроса. Жителей это впечатлило. Картошку немцам отдали так, да еще и пожалели побитого.
Ознакомительная версия.