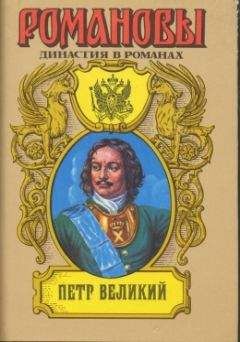Шакловитый нежно обнял Родимицу:
– Удружи, бабонька!
– Добро ужо, удружу!
У себя в терему постельница достала из сундука жбан с вином и, хлебнув из него, бросилась на постель.
«Заснуть бы», – болезненно потянулась она, но неожиданно встала и на носках подкралась к порогу. Из дальнего края сеней донеслись чьи-то шаги. Припав ухом к двери, Федора затаила дыхание. Шаги приближались, чёткие, тяжёлые, размеренные. «Нет! – простонала женщина. – Не он!» – И, снова отхлебнув из жбана, грузно опустилась на лавку.
Она не помнила, сколько времени просидела в хмельном забытьи и не слышала, как в терем вошёл Фома.
Сквозь тяжёлую одурь ей почудилось, что кто-то окликнул её. Она растопырила руки, помахала ими в воздухе и теснее прижалась лбом к столику.
Пятидесятный изо всех сил шлёпнул её ладонью по спине.
– Встань!
Родимица вскочила и, увидев перед собой Фому, сразу очнулась.
– А я было вздремнула маненько…
– Ведома мне твоя дрёма! – зло сдвинул брови Фома. – Поболе вина бы лакала!
Серое лицо женщины, изрытое морщинками, глубоко ввалившиеся, как у тяжко больного, глаза, беспомощно упавшие на высокий лоб давно не мытые кудельки, весь жалкий, прибитый вид её тронули пятидесятного. Сознание, что Федора опустилась так из-за него, породило в груди острое чувство вины перед ней. Движимый раскаянием, он виновато взял её за руку и нежно поцеловал.
– Колико раз обетованье давала не пить, – покачал он укоризненно головой, – а что ни день, то все боле падаешь, погибаешь.
Повиснув на шее у Фомы, Родимица надрывно заплакала.
– Ну, вот… и слёзы… – взволнованно засуетился стрелец. – Сядь… а то полежала бы малость… Во хмелю оно лучше лежать… – И, взяв постельницу на руки, перенёс её как ребёнка, на пуховик.
Родимица стихла. От этого на душе у стрельца стало почему-то ещё кручинней и горше.
– Так-то… ты полежи… – повторил он, не зная, что бы ещё сказать в утешение, и вдруг хлопнул себя ладонью по лбу: – А что ежели я, Федорушка, скину кафтан свой пятидесятного, да плюну на все, да махну с тобой в родную твою сторонку, к казакам?
Постельница не поверила собственным ушам.
– Со мною? – привскочила она и ущипнула себя за щёку. – Да сплю я, иль впрямь тебя зрю пред собою?
– С тобою! – твёрдо повторил стрелец и в подтверждение своей искренности перекрестился. – Давно я надумал бежать отсель. Не по мысли мне стали Москва и Кремль! Путаюсь, словно бы муха в паутине, крылышками машу, а воли не чаю! – И, как секирой, резнул ребром ладони воздух. – На кой мне и пятидесятство моё, коль чёрным людишкам от того ни печали, ни радости!
Постельница испуганно прыгнула к порогу и выглянула в сени.
– Не приведи Господь, кто услышит глаголы твои!
Царевна приветливо улыбнулась вошедшей в светлицу Родимице.
– Эвона, рдеешь ты! Уж не мир ли с соколиком?
– Мир, царевнушка! Мир, херувим мой!
– Ну, и слава Господу Богу, – уже строго кивнула Софья и деловито передала Федоре кипу мелко исписанных листков. – А и срок идти к царевне Марфе.
Светлица Марфы была набита участниками комедийного действа. При появлении Софьи все шумно встали и отвесили ей земной поклон.
Устроившись в кресле в красном углу, царевна, не теряя зря времени, сразу же принялась за чтение своей «комеди».
Никто почти ничего не понимал из прочитанного, но когда улыбалась Софья, все в тереме улыбались и все горько выли, когда в голосе её звучала печаль.
Только Голицын, покручивая усы, слушал серьёзно, временами записывая что-то на клочке бумаги.
– Всё! – встряхнулась царевна, дочитав последнее слово.
Участники поспешили изобразить на усталых лицах крайнеё сожаление.
– Сдаётся, так бы вот и слушал, и слушал, – вперил Шакловитый в подволоку зачарованный взор.
– И до того усладительно внимать пречудным глаголам сим, что сдаётся, не на земле пребываешь, но внемлешь херувимскому песнопению, – вытерла рукавом глаза одна из боярынь.
Софья гордо подбоченилась.
– Уразумели ль? Вот что для меня превыше всего.
– Как на ладони! – ответили все дружным хором. – Не захочешь – уразумеешь! Так все само в умишко и прёт!
Василий Васильевич взял из рук царевны «комедь», просмотрел листки и с большим уважением вернул их.
– Отменно! От чистого сердца сказываю: отменно!
Оглядев «лицедеев» опытным взглядом, Софья поманила к себе одного из дворовых.
– Как звать—то тебя?
Дворовый пал ниц.
– Микешкою, государыня!
Царевна пошепталась с Марфой и постельницей и объявила:
– С сего часу ты, Микешка, не Микешка, но принц Свейский, Каролус. Уразумел?
У дворового от страха зашевелились волосы на голове:
– Освободи, государыня, смилуйся. Православные мы!
– Дурак! – плюнула Софья в лицо привставшему холопу и оттолкнула его от себя.
Началось обучение.
Хуже всех исполнял свою роль «Каролус». Его то и дело выводили в сени, били нещадно батогами, снова учили, как держаться и говорить, но он только обалдело хлопал глазами, истово крестился и ничего не воспринимал.
Шакловитый читал свою роль по листку и так отличался, что приводил в восторг царевну. Однако в тех местах, где сопернику его по «комеди», Голицыну, приходилось обнимать Софью, он зеленел от лютого приступа ревности, путался и неожиданно умолкал. Но это не только не раздражало царевну, а как-то трогало даже, приятно щекотало женское её самолюбие. «Ишь ты, щетинится, – прятала она в углах губ гордую улыбочку – не любо, знать, ему, что князь ко мне ластится». И нарочито, чтобы ещё больше поддразнить дьяка, не по роли уже горячо прижималась к князю, заглядывала ему любовно в глаза и смачно чмокала в губы.
Шакловитый не выдержал наконец и, точно споткнувшись, всей своей тяжестью наступил на ногу Василию Васильевичу.
Голицын вскрикнул и рухнул на лавку.
– Мужик! – заревела царевна, набрасываясь на Шакловитого с кулаками. – Тебе, холопий род, не с князьями знаться, а на псарне служить!
Она прервала учение и выгнала всех вон из терема. Стиснув зубы, Голицын отчаянно мотал в воздухе больною ногою и глухо стонал.
Царевна опустилась перед ним на колени.
– Свет мой! Братец мой! Васенька!
И, осторожно сняв сапог, провела мизинцем по придавленным пальцам.
Острая боль уже проходила, но князь, польщённый вниманием Софьи, продолжал ещё жалобнее стонать и передёргиваться всем телом.
Заблаговестили к вечерне. Вздремнувшая подле князя царевна торопливо оправила на себе платье и, опустившись на колени перед киотом, смиренно перекрестилась.
– Благослови, душе моя Господа. Господи Боже мой. возвеличился еси зело во исповедание и в велелепоту облёкся еси.
Голицын встал с дивана, прихрамывая подошёл к порогу и растворил дверь.
– В Крестовую государыня моя, пожалуешь, аль у себя помолишься?
– В Крестовую, князь.
– А комедь?
– Ужо утресь приступим. – И, сложив на груди руки крестом, скромненько поплыла в Крестовую.
Глава 25
СЫЗНОВА «СТРЕЛЬЦЫ!»
Изо дня в день откладывал Фома свой отъезд из Москвы. Этому незаметно способствовала и сама постельница. Слишком привыкла Родимица к сытой и привольной жизни в Кремле, чтобы так просто порвать со всем и отказаться от всего. На Москве любовь и доверие царевны обеспечивали ей и почёт и богатство, а там, на далёкой родине, что могло её ждать, кроме унижения и непривычной борьбы за корку насущного хлеба?
Она ни словом не обмолвилась перед пятидесятным, что ей страшно променять Кремль на убогое прозябание безвестной казачки. Мягкость и неустойчивость Фомы, увлекающаяся его натура казались ей верной порукой тому, что сумеет она вовлечь его в какую-нибудь новую затею и тем заставит позабыть о бегстве из Москвы.
И Родимица не ошиблась. Всё складывалось так, что пятидесятный снова загорелся кипучей жаждой деятельности, рвался на подвиги. В беседах с Федорой он уже сам доказывал, что некуда ехать, раз живёт на Москве такой «великий печальник чёрных людишек, как князь Хованский».
– А будет Иван Андреевич на самом верху государственности – единым словом по-новому повернёт законы на радость убогим! – доказывал он, восторжённо глядя перед собою, как будто видел уже молочные реки, в которых купаются убогие русские человечишки.
Родимица сладостно жмурилась и, точно вслух рассуждая с собою, роняла подмывающие, огненные слова. И оттого, что постельница поддерживала его, как будто жила его чаяниями, пятидесятый полюбил её снова, как в первые дни связи, всей силой своей непостоянной души. Самые опасные поручения, вплоть до распространения по городу прелестных писем, постельница, не задумываясь, брала на себя и ни разу не подвела князя Хованского. То, что новый мятеж может погубить Софью, мало смущало её. Какое в конце концов дело ей до царевны и Милославских, раз открылась Фоме иная дорога на самый верх хитросплетённой лестницы государственности российской.