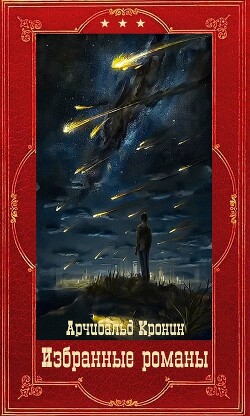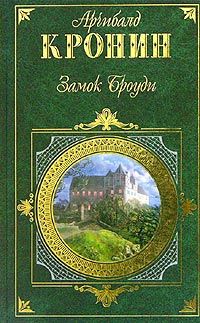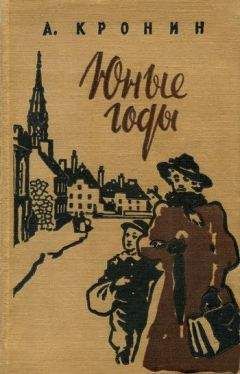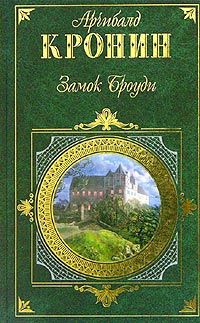— Очень уж ему понравилась моя шляпа. Заманить его туда ничего не стоило.
Было около восьми часов и почти совсем темно, когда мы добрались до «Ломонд Вью». Только тут я уразумел всю тонкость дедушкиных расчетов: по четвергам в половине восьмого папа обычно посещал собрание Строительного общества. Таким образом, никто не видел, как мы прошли к дедушке в комнату.
Николо был уже совсем здоров. Он хорошо знал нас — счастливое обстоятельство, поскольку при виде незнакомых он всегда приходил в волнение. А тут еще и новая обстановка ему, как видно, понравилась. Он кружил по комнате и не без приятного удивления обследовал все, что в ней находилось. Должно быть, его только что покормили — этим, видимо, и объяснялось его хорошее настроение. Дедушка протянул было ему мятную лепешку, но он отказался от нее.
Дедушка равнодушно смотрел на обезьянку. Он сохранял чувство собственного достоинства и сдержанно относился к животным, никогда не снисходил до того, чтобы возиться с ними, хотя проявлял превеликую любовь к Микадо в присутствии миссис Босомли; я видел, как он с омерзением пнул кошку, когда она попалась нам как-то одна в темноте.
Девять часов… На площадке лестницы скрипнула половица — значит, бабушка прошла в ванную. Дедушка, мрачно стоявший наготове, не стал терять ни минуты. С проворством, поистине примечательным для человека его лет, он схватил Николо и исчез за дверью. Прошло несколько секунд — и он вернулся, но уже без обезьяны.
Я побелел. Только тут я понял, какой он задумал устроить «бал». Меня затрясло, но в то же время я сознавал, что с жгучим нетерпением жду развития событий. Я присел возле дедушки, который грыз ногти, и стал напряженно прислушиваться. Вот на площадке снова раздались тяжелые шаги бабушки. Мы услышали, как она вошла к себе в комнату, стала не торопясь раздеваться, вот под нею заскрипела кровать. Тишина, страшная тишина. И вдруг воздух прорезал крик… за ним еще… и еще.
О том, что было дальше, бабушка должна сама рассказать — и на своем особом шотландском диалекте, который до сих пор я для ясности переводил, ибо, если выпустить все ее «словечки», повествование потеряет свой аромат. В последующие годы бабушка не раз пересказывала эту историю, главным образом своей приятельнице мисс Тибби Минз, и всегда с невероятно серьезным видом. Не удивительно, что у меня в памяти этот эпизод запечатлелся, как «Встреча бабушки с чертом».
Вот как это было:
«Ну и вот, значит, Тибби, в ту страшную ночь, когда Нечистый явился ко мне, я была в самом что ни на есть здравом уме и доброй памяти. Я сняла платье, аккуратственно повесила его на спинку качалки, надела чепец и ночную сорочку. Потом прочитала главу из библии, как подобает доброй христианке, вынула изо рта свои зубы и зажгла свечу — я ведь глаз не сомкну, если у меня всю ночь свеча не горит. Ну и вот, значит, легла я на подушку и приготовилась отойти ко сну, как всегда в объятиях Спасителя, — вдруг эта самая Нечисть возьми да и прыгни мне на грудь. Открыла я глаза. Смотрю: пламя свечи колышется — ей-богу, даже на Страшном суде могу повторить, — а у свечки той сидит сам Сатана и пялит на меня глазища.
Да нет же, Тибби, нет, это мне вовсе не привиделось. Я и не думала спать. И привидеться мне такое не могло. Прямо передо мной сидел Нечистый, хвостатый такой, рожи корчит, ухмыляется, а сам зубы выставил и щелкает ими, точно хочет меня зацапать и утащить в преисподнюю. Ты меня знаешь, Тибби, я не из робкого десятка, но тут у меня вся кровь в жилах застыла. Ни вздохнуть, ни охнуть, ни крикнуть не могу, где уж тут прошептать молитву. Я просто лежала, как мертвец, и смотрела на Проклятого, а он глазел на меня.
Потом он как подпрыгнет и ну скакать у меня на груди, точно я не человек, а пони. Прямо скажу тебе, Тибби: если раньше я дохнуть не могла, так тут из меня и вовсе последний дух вышел. Нечистый схватил меня обеими лапищами за косы и ну трясти мою голову, точно бидон с молоком. И уж так-то он выплясывал, такие фортели выделывал, что из меня и дух вон. А от самого искры во все стороны так и сыплются. Ну и испугалась же я, моя хорошая, у меня вся кожа гусем пошла. А Нечистому, видно, только того и надо было: уж он и прыгал, и рожи-то корчил, и хвостом перед моим носом махал, и парик с меня стянул и — стыдно сказать — сорочку на спине изодрал.
О Господи, если б у меня хоть хватило разума сказать против него заклинание, но куда там — совсем ума решилась. Я только и прохрипела, точно у меня кляп во рту был: „Изыди, Сатана, изыди вон!“
Хоть и очень тихо я это сказала, а все-таки, должно быть, слова мои остановили Нечистого. Он вдруг перестал прядать, осклабился и выхватил мои зубы из стакана с водой, что стоит у меня в изголовье. Потом — вот, ей-богу, не вру, как перед лицом Создателя, — поднялся он во весь рост на кровати и ну выделывать всякие штуки с моими зубами: то сунет их в рот, то вытащит оттуда.
Говорю тебе, Тибби, это, наверно, меня и спасло. Как увидела я, что эта Мразь проделывает с моей двойной золотой челюстью, кровь у меня вскипела, стряхнула я с себя всю эту муть, села на постели и погрозила ему кулаком. „Ах ты, Мразь ты эдакая! — крикнула я. — Господь упрячет тебя назад в преисподнюю!“
Только он услышал имя Всевышнего — ну не мог же он испугаться моего кулака, — он как завизжит: вы бы, дорогая моя, от этого визга тут же окачурились. Да как бросится с криком и воем с постели. К счастью, я оставила дверь приоткрытой на цепочке: ночь была теплая, и мне хотелось немножко подышать свежим воздухом. Он в эту дверь-то и вышел, а за ним адский пламень взвился; а я лежала, вся тряслась и только благодарила Провидение, что оно так милосердно спасло меня. Целую минуту я ни рукой, ни ногой не могла пошевельнуть. А когда я, наконец, встала, зажгла газ и принялась благодарить Небо за то, что осталась цела и невредима, я увидела — Господи, спаси и помилуй! — я увидела — Господи, помоги мне пережить это! — я увидела, знаете что? То, что наделал этот Окаянный.
Не думайте, что он украл мои челюсти, нет, слава Богу нет, и не сломал их. Но из черного умысла и мести кинул их под кровать да прямо в ночной сосуд».
Глава 17
На следующей неделе в четверг летние каникулы кончились. Кейт возобновила свои уроки в начальной школе, а я снова пошел в Академическую. Я живо помню этот день: дедушка ходил унылый, мрачнее тучи. Это свойство ни с того ни с сего впадать в такое уныние, когда жизнь кажется серой и беспросветной, я унаследовал от него, и чем старше становился, тем чаще находила на меня тоска.
Жара стояла удручающая. Бабушка по-прежнему сидела запершись у себя в комнате; Мэрдок старался никому не попадаться на глаза; он потихоньку начал работать у мистера Далримпла в питомнике.
Дедушка не проявлял ни малейшего желания встретиться с приятелями; работы по переписке не было, — словом, оставалось только терпеть жару и папино дурное настроение. Старика изводили, к нему придирались. Только самый мелочный ум мог изобрести такое: не давать старику денег на табак. Я думаю, именно это и породило у дедушки мысль, которую он как-то высказал, уныло поглаживая пустую трубку:
— Ну, к чему все это, мальчик… к чему?
Утром, одеваясь в своем уголке, я слышал, как папа ворчал за завтраком и всячески поносил старика; вдруг сверху спустилась мама.
— Дедушки нет у себя! — воскликнула она, и в голосе звучали изумление и беспокойство. — Куда он мог деваться?
Пауза. Сначала папа удивленно молчал, потом вскипел от возмущения:
— Ну, это уже последняя капля. Чтоб он был здесь к обеду, а не то я с ним разделаюсь!
Огорченный, но еще не очень тревожась, я отправился вместе с Гэвином в школу; тут мы узнали, что будем не только учиться в одном классе, но и сидеть рядом. Это обстоятельство, а также новые учебники, которые я бережно принес домой, чтобы мама обернула их, занимали меня весь день. Но когда вечером мы собрались к чаю, я понял, что произошло что-то серьезное: у мамы были красные глаза, а папа сидел подавленный.