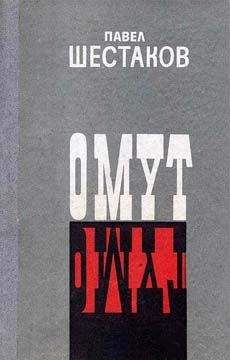— Что это вы, Юра? Вы совсем не похожи на жениха. Выше голову! Обещаю, что не буду сварливой женой. И не успею надоесть вам. Наш брак будет очень короток.
Она сказала это шутливо, нарушив собственный запрет, не подозревая, что вовсе не шутит, и каждое прозвучавшее слово — горькая истина.
Увлеченные разговором и поглощенные тем новым вниманием, которое возникло у них друг к другу, Юрий и Софи приблизились к главной улице, когда рядом, прямо перед ними, на перекрестке раскатисто зазвенела медь военного оркестра. Оркестр шагал по Соборной, а за ним на такой же скорости прямо по трамвайному пути двигался грузовой автомобиль с откинутыми бортами. В открытом кузове, убранном красными полотнищами, был установлен красный гроб. За грузовиком шли красноармейцы в трофейных английских ботинках и в гимнастерках с красными полосами на груди. Примкнутые штыки колыхались над головами.
На одной из лент, опоясывающих цветы у гроба, Юрий прочитал: «От Всероссийской Чрезвычайной…» — и все понял.
— Это тот самый… один из главных… я видел сегодня в газете… — понизив голос, сказал он.
Софи сразу вспомнила «военный совет в Филях».
«Однако они не откладывают свои решения в долгий ящик», — подумала она с удовольствием.
— Я знаю. Его застрелил бандит.
— Неужели из людей…
— Да, Техник знал.
— Как неосторожно!
— Почему?
— Они бросили перчатку.
— Не только перчатку, как видите. И свинец.
— Но именно сейчас, когда мы…
— Это было продумано. Пустить собак по ложному следу.
— Вы уверены?
— Да не все ли равно, в конце концов! Одним большевиком меньше — вот что главное.
Процессия, военные и сопровождающие, проходила мимо.
Музыка лилась скорбно и торжественно:
Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу,
Вы отдали всё…
— Все отняли, — сказала Софи. — Ну, этот хоть получил по заслугам. Послушайте, Юра, пойдемте следом, на кладбище, а?
— Стоит ли?
— Я хочу увидеть, как его положат в могилу. Своими глазами. Вас это шокирует? Поверьте, я не всегда такая была. Поверьте!
* * *
Ей вспомнился Великий четверг в восемнадцатом, в недавно занятой станице.
Еще доносится, постепенно отдаляясь, орудийный грохот, а в тесной церкви священник читает евангелие. Тесно, потому что в храме много раненых. Некоторые осторожно поддерживают подвязанные платками руки. Пламя желтых свечей оттеняет осунувшиеся лица. Служба кончается…
Софи выходит на паперть. Из церкви еще тянет ладаном, а рядом благоухает только что распустившаяся сирень. По улице, трепеща на воздухе, дрожа, плывут огоньки. И Софи осторожно несет свечу, прикрывая от свежего предрассветного ветерка. И вдруг он доносит другой, совсем не весенний запах, от которого сразу возникает тошнота.
— Что это? — спрашивает она у раненого на костыле.
Ей хорошо знаком этот запах, но откуда он сейчас, здесь?
— Повешенные. Третьего дня повесили пленных комиссаров.
— И до сих пор?..
— Велено не снимать. Для острастки.
— Как отвратительно, — шепчет она.
И еще долго любая казнь вызывала в ней отвращение. Пожалуй, до той самой страшной минуты, когда сжала она в ладонях голову Мишеля…
— Пойдемте, — согласился Юрий.
Почти полтораста лет стекались в этот южный город люди разных национальностей и религий. Жизнь сводила их вместе, селила бок о бок, но смерть разводила вновь по традиционно положенным каждому местам вечного успокоения. Кроме русских, в городе были греческое и армянское, еврейское, татарское и даже лютеранское кладбища. И лишь одно нарушало жесткий принцип «каждому свое». Здесь не рябило в глазах от сонма ангелов из мрамора всех оттенков, от черного до розового, не сверкали золотом титулы и эпитафии Называлось кладбище — Братское. Именно на нем похоронили в ноябре семнадцатого первых павших красногвардейцев. Теперь рядом с ними пришел черед лечь и Науму.
Машина проползла узкой аллейкой и остановилась у заранее вырытой могилы. Провожающие в последний путь сгрудились поодаль, красноармейцы приставили винтовки к ноге. Оркестр умолк. Начался траурный митинг.
Софи и Юрий не стали смешиваться с толпой. Они поднялись на холмик к единственной на кладбище могиле с памятником. Лежал под ним известный в прошлом веке в городе чудак и вольнодумец, не пожелавший разделить с высокопоставленными родичами фамильный склеп. Согласно его последней воле на простой гранитной глыбе была высечена иронично-философская надпись:
Уходит человек из мира,
Как гость с приятельского пира.
Он утомился кутерьмой,
Бокал свой допил, кончил ужин:
Устал. Довольно. Отдых нужен.
Пора отправиться домой!
Совсем другие слова звучали внизу, на митинге.
Коренастый человек с крупной, гладко выбритой головой, сжав в руке фуражку, говорил, сопровождая речь энергичными, напористыми жестами.
Слышно было не все. Долетало отдельное:
— Свободный народ не забудет… Враг поплатится… Нет силы, которая может остановить… Пролетарская революция неудержимо… Пусть знают затаившиеся…
— Это мы, — сказала Софи. — Мы знаем.
— Кто он?
— Третьяков, председатель ВРК.
И подумала: «Если бы пулемет…»
Однажды, когда красных выбили с позиции и те отступили, бросив пулеметную ячейку, на железнодорожной ветке, пересекавшей поле боя, появился бронепоезд. Он чем-то напоминал этого выступавшего большевика, такой же наполненный сокрушающей силой. Белые дрогнули, залегли, начали отступать перед стальной махиной.
Подчиняясь одному ожесточению, Софи скатилась в наспех подготовленное укрытие и, развернув пулемет, выпустила очередь. Пули били по броне, отскакивали в бессилии, а состав надвигался, казалось, готовый свернуть с рельсов и раздавить ее вместе с маломощным оружием.
Но тут рявкнуло сзади трехдюймовое орудие, и снаряд снес взятую в железо паровозную трубу. Он не повредил, в сущности, бронепоезд, но дым повалил вниз, окутывая вагоны, и казалось, он горит, вспыхнул. На короткое время этот дым помешал вести придельный огонь, и она успела отползти к своим, глотая неудержимо хлынувшие слезы…
— Революция победит, — заканчивал речь Третьяков, — в мировом масштабе!
Красноармейцы вскинули винтовки.
Залп! Второй…
— Мне кажется, что они стреляют в нас, — сказал Юрий.
Оркестр грянул, перейдя с траурной мелодии на мажор революционного гимна:
Это есть наш последний
И решительный бой…
— Пойдемте, — попросил Юрий.
Они начали спускаться на аллею, по которой шел тем временем, другой человек, тоже стоявший во время похорон в стороне, Максим Пряхин. Толпа разделила их, и Юрий не заметил Максима, но Максим увидел Юрия. В ревнивое и уязвимое сердце Пряхина кольнуло: «Офицерик-то с барышней, а Танька с его дитем…» Стало жалко сестру, но тут же подумалось: «А может, оно и к лучшему? Пора же им наконец развязаться. Белую кость не перекрасишь. Небось смерти Наума радуется… Эх, Наум, Наум! Как же это тебя угораздило!..»
— Пряхин! — прервал его размышления громкий голос.
Максим оглянулся и остановился.
Окликнул его Третьяков, который шел, смешавшись с товарищами.
— Здравствуй, Пряхин.
— Здравствуй, Иван Митрофанович.
— Сторонишься товарищей?
— С чего ты взял?
— За спинами хоронишься.
Такой разговор был Максиму не по душе.
— Хорониться за спинами не привык. Пришел последний долг отдать. Мы с покойником вместе под деникинской петлей ходили.
— А теперь его пуля настигла.
— Упрекаешь?
— Упрекаю. Бросаешь товарищей в трудный час.
— А кто его трудным сделал? Протянули руку, а вам не хлеб, а камень…
— Ну, здесь спорить неуместно. Советую самому над его могилой подумать.
— За совет спасибо, только я уже подумал.
И, повернувшись, он пошел мимо Третьякова к влажному еще холмику, чтобы бросить на него последнюю горсть земли.
А тем временем Юрий, к счастью не видавший Максима, потому что встреча заставила бы его вспомнить о Тане, наткнулся на совсем другого знакомого. Тот тоже стоял в стороне на похоронах. Но все они стояли с разными мыслями и чувствами.
— Шумов! Ты-то что здесь делаешь?
Мысли и чувства Шумова были глубоко скрыты, и Муравьев не догадался о них.
— Позволь прежде поклониться даме. Целую ваши ручки, мадемуазель.
— Здравствуйте, ваше степенство.
Софи испытывала неприязнь помимо воли.
— Вы по-прежнему недолюбливаете коммерцию?
— А вы решили открыть похоронную контору?
Шумов улыбнулся.
— До революции это было прибыльное дело.