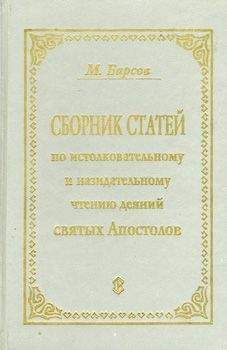Васька уже было взялся за кнут, когда послышался стук в калитку.
Тимошка с изумлением оглянулся через плетень на дверь.
— Ко мне? Кто бы это?
— А Ивашка стрелец, — напомнил ему Васютка, — он хотел веревку купить для счастья.
— А! — Тимошка усмехнулся. — Побеги, открой ему!
Васька бросил кнут и убежал. Через минуту он вернулся с встревоженным лицом.
— Не, какие-то люди. Тебя спрошают!
— Какие такие? — сказал Тимошка, собираясь идти на двор; но они уже вошли в сад.
Тимошка подошел к ним.
Они, видимо робея, поклонились и прямо приступили к делу.
— Покалякать с тобою малость, — сказал черный и, оглянувшись, прибавил: — Дело потаенное!
— Ништо, — ответил Тимошка, — у меня тута ушей нету. Сажаетесь! — Он подвел их к скамье под кустами сирени и опустился первый.
Шаленый увидел мешок, кнут с плетью и вздрогнул.
— Это что? — спросил он.
Тимошка усмехнулся.
— Снасть. Мальчонку учил. Васька, — крикнул он, — убери! — и обратился к гостям: — Какое дело-то?
— Потаенное, — повторил черный, и нагнувшись, сказал: — Бают, слышь, что у вас в клетях сидит Мирон.
— Мало ли их у нас! Мирон, Семен.
Шаленый вздрогнул.
— Нам невдомек. Какой он из себя? За что сидит?
— Рыжий… высокий такой… по оговору взяли… будто смутьянил он… а он ничим…
— Этого-то? Знаю! — кивнул Тимошка. — Ну?
— Ослобонить бы его, — прошептал черный и замер.
Тимошка откинулся, потом покачал голевою и усмехнулся.
— Ишь! — сказал он. — Да нешто легко это. Шутка! Из клети вынуть! Кабы ты сказал — бить не до смерти, а то на!
— Мы тебе во как поклонимся! — сказал Шаленый.
— А сколько?
— А ты скажи!
Тимошка задумался. Такие дела не каждый день и грех не попользоваться. Очевидно, они дадут все, что спросишь.
— С вымышлением делать-то надо, — сказал он, помолчав, — не простое дело! Ишь… Полтора десять дадите? — спросил он с недоверием.
— По рукам! — ответил внятно черный. Лицо Тимошки сразу осветилось радостью.
— Полюбились вы мне, — сказал он, — а то ни за что бы! Страшное дело! Теперь надо дьяку дать, писцу, опять сторожам, воротнику, всем!
— Безвинный! — сказал черный. — Когда же ослобонишь?
— Завтра ввечеру! Приходите к воротам. Его в рогоже понесут к оврагу. Вы идите позади, а там скажите: по приказу мастера! Вам его и дадут.
— Ладно!..
— А деньги — сейчас дадите пяток, а там остальные. Я Ваське, сыну, накажу; он вас устережет!
Черный торопливо полез в сапоги и вынул кошель. Запустив в него руку, он позвенел серебром и вынул оттуда пять ефимков.
— Получай!
Тимошка взял деньги и с сожалением сказал:
— В земском приказе сколько бы взяли!
— Шути! — усмехнулся черный, вставая.
— А скажи, — спросил Шаленый, — с ним вместе девку Акульку взяли, ее можно будет?…
— Акулька? — сказал Тимошка. — Высокая такая, сдобная?
— Она! Али пытали?
Тимошка махнул рукою.
— Акулька — ау! Ее боярин к себе взял…
Черный протяжно свистнул.
— Плохо боярину, — пробормотал Шаленый, и они двинулись к воротам.
— Веревки не надоть ли, — спросил Тимошка, — от повешенного?
— Не!
— Руку, может? У меня есть от тезки мово. Усушенная!..
— От какого тезки?
— Тимошки Анкудинова. Я ему руку рубил, потом спрятал.
— Не надо, свои есть, — усмехнулся черный. — Так завтра?
— Об эту пору, — подтвердил Тимошка, выпуская гостей.
— Уф! — вздохнул с облегчением Шаленый. — Словно у нечистого в когтях побывал.
— Труслив, Сенька! — усмехнулся черный.
— А тебе будто и ништо?
— А ништо и есть!
Они прошли молча мимо приказа.
— Куда пойдем, Федька?
— А куда? К Сычу, на Козье болото. Куда еще!
— А Мирон-то? Вот осерчает, как про Акульку узнает! Беда!
— А ты бы не осерчал? — спросил Федька, и черные глаза его сверкнули. — Я бы не посмотрел, что он боярин!
Солнце уже село, и над городом сгустились сумерки. Тимошка вошел в горницу и весело сказал:
— Получай, женка, да клади в утайку свою!
— Откуда? — радостно воскликнула Авдотья.
— Гости принесли, — засмеялся Тимошка, — завтра еще десяток.
— А я веревку продала. Приходил Ивашка. Я ему с поллоктя за полтину!
— Ну-ну! — И Тимошка так хлопнул по спине Авдотью, что по горнице пошел гул. Авдотья счастливо засмеялась.
Того же 24 апреля Тишайший царь Алексей Михайлович [2], откушав вечернюю трапезу в своем коломенском дворце и помолившись в крестовой с великим усердием и смирением, простился с ближними боярами и, отпустив их, направился в опочивальню.
— Князя Терентия со мною, — сказал он.
Терентий — князь Теряев-Распояхин — быстро выдвинулся вперед и прошел оправить царскую постель.
Царь, истово покрестивши возглавие, самое ложе и одеяло и осенив крестом все четыре стороны, лег на высокую постель.
В той же комнате, на скамье, покрытой четырьмя коврами, лег князь Терентий.
В смежной комнате легли шесть других постельничих, из боярских детей; дальше, в следующей комнате, поместились стряпчие, из дворянских детей, на которых лежало по первому слову царскому скакать с его приказом хоть на край света, и, наконец, за этими последними дверями стояли на страже царские истопники, охраняя царский покой.
Ночь во дворце началась, но не спалось в эту ночь князю Терентию. Может, от дум своих, которых не поведал бы он ни царю, ни батюшке, ни попу на духу, может, оттого, что весенняя ночь была душна и звонко через слюдяное окно лилась в комнату соловьиная песнь, — только не спал князь Терентий. С ног его сполз легкий кафтан и упал на пол у самой скамьи, а сам князь облокотился на руку и полулежал, устремив недвижный взор на царскую постель. В опочивальне было почти светло от яркого лунного света и лампады, что теплилась перед образом над дверями. В почти пустой огромной горнице, по стенам уставленной укладками и сундуками в чехлах, с поклонным крестом в углу, словно шатер стояла царская постель, покрытая пышным балдахином.
Алого бархата занавесы спускались до пола, золотом перевитые кисти подхватывали края серединных полотнищ, и высоко поднимался купол балдахина, оканчиваясь искусно выточенным золоченым орлом.
А если бы заглянуть вовнутрь, то на верху балдахина можно было бы увидеть красками написанное небо, с солнцем, луною и планетами.
Князь Терентий лежал, отдаваясь своей тоске, когда вдруг из-за занавесей раздался протяжный вздох, и князь невольно ответил на него тоже вздохом.
— Не спишь? — послышался ласковый голос царя.
— Не спится, государь, — вздрогнув, ответил Терентий, — ночь-то такая духовитая… соловей звенит…
— О! — сказал царь, — али по жене затосковал? Небось, небось, завтра свидишься!
Князь помолчал. Скажи он слово, и он выдал бы охватившее его волнение. Лицо его сперва залилось краскою, потом побледнело, а царь продолжал говорить.
— Вот и мне тоже не спится, только по иному чему, нежели тебе, Тереша!.. Все думаю, чем война кончится; хорошо ли удумано; опять сам ехать решил, и оторопь берет. Слышь, что ведунья покаркала.
Князь покачал головою:
— Коли дозволишь мне, холопу твоему, слово молвить, — скажу: все пустое! Николи человек знать будущего не может. Все от Бога! — сказал он с глубокою верою.
— А он не пакостит, думаешь? От Бога доброе, а от него, с нами крестная сила, погань идет.
— Без Господней воли — и он без силы!
— А все же она сказала, и берет меня раздумье. Забыть ее не могу. В лесной чаще, куда заскакал я, и зверь не бывает, — и вдруг она! Откуда? Сгорбленная, лохматая, глаза горят, и рот, словно щель черная. Конь ажно в сторону шарахнулся. А она кричит мне: слушай, царь! Я и остановился, а она: не дело замыслил, говорит, уедешь из Москвы, а вернешься — один пепел будет!.. — и сгинула… разом…
Царь замолчал.
— Да, — сказал князь, — я да Урусов с Голицыным, да Милославский, мы весь лес потом изъездили. Сгинула!
— Вот видишь! — подхватил царь. — Наваждение, не иначе. Я патриарху отписал, а он пишет: молиться будет… Святой! — сказал царь с умилением, и мысли его обратились тотчас в иную сторону.
— Великий старец! — заговорил он с восторгом. — Мед в устах! И мудрость велия, и сердцем кроток, и жизни праведной. Когда молил я его, он все говорил: недостоин! А ныне как пасет овцы своя? За всех нас молельщик!
— А он и на войну благословил, — сказал князь.
— Так! Почему же я иду, а все не могу изгнать из дум своих ее карканья! Положим, — заговорил он снова задумчиво, — Москву на верных слуг оставляю: Морозов Иван, Куракин Федор, Хилков. Мужи разума, а все же сердце щемит. Царица, детки малые, царевич. Вот что!