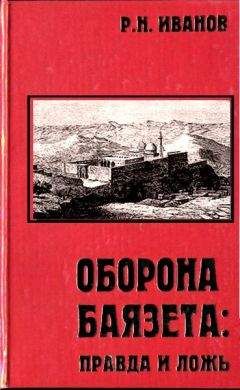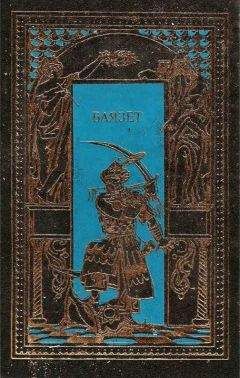Воин крикнул испуганно и удивленно:
— Эй! А шапку-то позабыл!
Но, ожегши его плеткой по скуле, всадник с бритой головой, помахивая по ветру тугой, как кошачий хвост, монгольской косой на макушке, уже перемахивая на просторе через канавки, подтаявшие сугробы и лужи, мчался по обнажившемуся полю к недалекому лесу.
Воин, прижав ладонь к скуле, кричал, оборотясь к избе:
— Эй! Не иначе как Тохтамыш-хан. Эна. Эна скачет!..
А Тохтамыш скачет, длинный, на маленькой лошадке с обвязанными тряпицами задними ногами: видно, лошадка засекает, когда скачет. Но, знать, хороша, если, еще когда владел большими табунами, выбрал эту, засечную.
Ему кажется, что он летит, наклонившись вперед, но, как знак погони, его с девичьим стоном обогнала стрела и, вонзившись в кочку, качается.
Погоня. Но лес уже близок. Еще одна стрела вонзилась в березу, едва он ворвался в лес, проскакивая между стволами.
Он скачет между деревьями, продирается сквозь кусты. Погоня на усталых конях замешкалась.
То пригибаясь под ветками, то почти прижимаясь к шее коня, когда ветки низки, он поглядывает по сторонам, но торопится забраться в чащу поглубже, где порозовевшие кустарники закрывают его.
Чуть подальше есть вправо лесная дорога. Она приметна и выйдет к селенью. Зная ее, он сворачивает влево, где непролазна чащоба, где нагромоздился, ощерившись, бурелом. Конь послушно обходит пни и валежник, кое-где перемахивает через скользкие стволы. Дальше проезда нет.
Тохтамыш спешивается, берет коня под уздцы, и они идут рядом через тесные пролазы между деревьями, пока наконец не добираются до ручейка.
Талая вода струится поверх льда.
Напились оба.
Поднялся в седло. Поехал по ручью: здесь и ветки выше и не надо перебираться через валежник. Лишь изредка путь преграждали стволы деревьев, упавших поперек ручья.
Остановился, прислушался к гулкой тишине леса. Как и надеялся, погоня ушла вправо по дороге к селенью: не догадались, что хан мог свернуть в непролазную глушь, в овраги, куда и летом боязно заходить.
Перехитрил: любой менее осторожный беглец поскакал бы так, приманчивой дорогой.
Он потрепал лошадь по шее и мигом въехал на некрутое взгорье, откуда выехал на небольшую поляну.
На краю поляны в светлом березняке вросшая в землю приземистая изба молчала.
Тохтамыш спешился, стреножил коня и пустил попастись по молодой первой поросли. Сам, неслышно, как лесной охотник, ступая по сырой земле, подошел к двери. Одинокий старик в длинной, по щиколотку, рубахе отворил дверь.
Он издавна знал этого старика, но не видел его давно, со времен, когда был могущественным ханом. Тогда они с сыном старика заезжали сюда отдохнуть с охоты.
Старик поклонился, обрадовавшись было, но, видя, что Тохтамыш один, побледнел.
— Сына ждешь?
— Давно вестей нету, высокий хан.
— Батыр! Воин. Бесстрашен. Дерзок. Ко врагу немилостив.
Слыша, как скупой на похвалу хан столь хвалит его сына, старик понял, что сына нет: живых этот хан никогда не хвалил, славил только павших.
Отступив в глубь избы, старик впустил Тохтамыша, показал место, где сесть, и вскоре постелил перед ним покрытую заплатками скатерть.
Спустившись в погреб, старик откопал глиняный кувшин с вином и принес хану.
— Сына ждал. Приготовил и берег. Хотел поставить к его приезду.
Тохтамыш не сказал, что сын еще придет.
Выпив чашку этого черного вина, настоянного на меду и лесных травах, Тохтамыш быстро захмелел: вино ли так созрело, сам ли устал с дороги, ничего не евши со вчерашнего дня.
Старик молча разглядывал хана, неустанного завоевателя, устрашавшего окрестные страны, а хан сидел, отвалившись к стене.
Круглый лоб. Маленький нос с горбинкой. Рыжие глаза, широко раздвинутые к вискам. Синие губы круглого рта, под усами влажного от вина. Круглые плечи, покрытые простым чекменем.
Тохтамыш сказал:
— Он смел. Твой сын был упрям. Нет, я бы его не тронул, не будь он упрям.
Тохтамыш не хотел сказать, как казнил этого сына, сгоряча рассердившись, что тот отказался убить пленника и возражал хану: «А я говорю, он не виновен!» Бубнил одно и то же, словно он сам хан.
Об этом Тохтамыш не сказал. Выпив еще чашку вина, которую сам себе налил, хан захотел поговорить о недавней своей силе. Растягивая слова и слегка гундося, он говорил, будто причитал:
— Когда я ходил на Мавераннахр, на Тимура, и за горы Эльбруса, и по стране Араратской, и по отрогам Арарата, — куда бы ни пришел, везде хозяин я. Я! Со мной там никто не мог сладить!
— Чего же нынче один бегаешь?
— Едигей изловчился. Сел на мой стол. Нынче мне надо утаиться. Выждать. В Сарае меня опознали. Едва ушел. А этот однорукий Тимур сам хромой, а ладит со мной управиться!
— Да ведь и управился уж!
— Молчи. Воинство мое поразбежалось, поупряталось по укромным местам. А несколько тысяч конницы я отдал в Литву королю Витовту. Они там спокойны. Как я велел, так и сделано. А они припрятались и ждут моего слова. И я им скажу. Теперь скажу. Мы еще отвоюем назад все, что у нас отняли: и Эльбрус, и Арарат, и Москву. Что у меня отняли, верну!
Старик принес ему печеную утку.
— Поешь. С пролета стрелой сбил.
Тохтамыш, по-волчьи хрустя костями, принялся за еду.
Старик смотрел, разглядывал его.
Тохтамыш, отложив обглоданные кости, еще налил себе вина. Заговорил спокойнее, словно отрезвел:
— Созову всех своих. И семьи их. И уйдем.
— Далеко ли, хан? На Арарат, что ли?
— К своей коннице. На Литву. А чего ты мне твердишь: Арарат! Арарат! На кой он мне?
— Ведь был же нужен, когда с моим сыном туда ходил.
— Я там все перевернул. Всю их жизнь пустил по-иному.
— А они тому радовались?
— А что они, понимают, что ли, как надо жить!
— И нынче там живут по-твоему али по-своему?
— Может, и по-своему, да я им о себе напомню. Может, меня забыли, а я напомню!
— Из Литвы-то?
— Надо терпеть и уметь ждать. Ждать надо умело!
Старик опять посидел молча, глядя, как жадными глотками хан пьет вино. Потом встал и принес глубокую шапку.
— Барсучья. Вот она. Сшил сыну. Думал надеть на него на свадьбе. А он женился, отцу не сказавшись. Носи ее, хан, сам. Возьми. Надень. Неловко вилять косой по ветру.
Тохтамыш нахлобучил мягкую шапку.
Старик сказал:
— Думал, посижу на той свадьбе на отцовом месте. А жену сын выберет себе писаную красавицу. Ведь он был воин, батыр…
Старик отвернулся к очагу, чтобы хан не заметил, как старое лицо сморщилось и горло перехватило от слез.
Тохтамыш, придвинув остатки от утки, вразумлял старика:
— Самая писаная красавица не даст мужу больше, чем простая девка: это богатство ихнее одинаково у всех.
Тохтамыш здесь переночевал и, чуть рассвело, уехал тем же глухим лесом к месту, где знал верного человека.
С этого дня Тохтамыш начал сборы своей орды, всех верных людей с их семьями, задумав увести их в Литву к королю Витовту, обещавшему Тохтамышевой коннице достойное место в своем войске, ослабевшем после битвы на Ворскле, а семьям дать землю и не угнетать их веру.
Родная сторона отторгла своего повелителя, неусыпного завоевателя чужих земель.
5
Весеннее утро над Самаркандом светило сквозь призрачное марево. Во все предшествующие дни погода часто менялась — то лили холодные ливни, то распогоживалось и ветром вскоре обсушивало серую глину стен, они снова становились голубоватыми, словно к глине жилищ примешана синь самаркандского неба. Легкое, переливающееся марево теплого воздуха курилось и мерцало над обширным городом, и утро не казалось таким ясным, ярким, каким хотел бы увидеть его напоследок собравшийся в путь правитель Самарканда Мухаммед-Султан. Он велел царевичу Мирзе Искандеру, содержавшемуся в Синем Дворце, явиться в дом правителя.
Спор между царевичами не решился, решить его мог лишь сам Тимур.
Но, вызвав царевича, Мухаммед-Султан тяготился этой неизбежной встречей с двоюродным братом: правитель отвык, чтобы кто-либо понуждал его говорить, а паче того отвечать, если самому не хотелось.
Мирза Искандер уже много долгих месяцев обитал в Синем Дворце под присмотром недоброжелательных слуг правителя, в тесной и уединенной келье, в тишине и безделье. С тех пор, когда, казнив его соучастников и потатчиков, Мухаммед-Султан отобрал у Мирзы Искандера Фергану, а строгому деду послал подробный донос о всех проделках, происках и провинностях ферганского царевича. Ему дозволялось навещать лишь своих жен, обособленно размещенных в том же Синем Дворце среди присланных непослушных им служанок. Мирза Искандер жил во все это томительное время не под одним лишь присмотром, но и при многих обидах и лишениях, стеснявших его исконные привычки и потребности, ибо, наследник Омар-Шейха, балованный внук Тимура Гурагана, он считал себя не узником, а званым гостем у такого же, как и он, царевича, у такого же, как и он, внука, хотя и поставленного в правители Самарканда, но ничем не отличного среди прочих внуков Тимура.