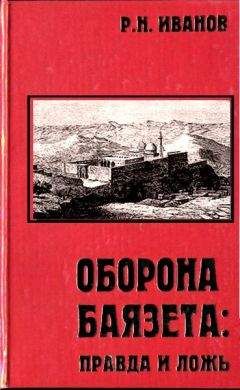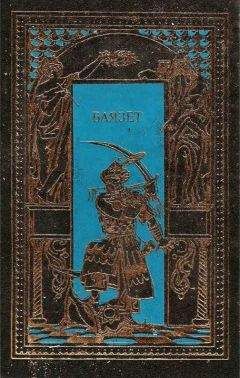Мирза Искандер часто досаждал Мухаммед-Султану, испрашивая себе то серебряника, чтобы выковал новые уздечки на случай каких-то будущих прогулок или выездов, то отпуск в загородные сады, хотя там по зимнему времени ничего не было, кроме вяленого винограда под потолком, грубых дынь в подвалах да озябших газелей в загонах. То требовал к себе певца, чтобы послушать макомы, то историка Муин-аддина Натанзи из прежних своих ферганских собеседников, чтобы прослушать ученое сочинение, которое тот писал. Во многих просьбах Мухаммед-Султан отказывал: не дал серебра на уздечки и не отпустил в загородные сады, но допустил и певца, и собеседника — не мог всегда отказывать, ибо их дед амир Тимур Гураган, Повелитель Вселенной, увлеченный походом в далекие страны, воевал в Грузии и указа о наказании Мирзы Искандера не слал. Прибыл лишь вызов обоим царевичам к деду, но в нем не содержалось ни осуждения Мирзе Искандеру, ни поощрения Мухаммед-Султану, правителю Самарканда и нареченному наследнику Повелителя Вселенной.
Возле дворца правителя, где уже достраивался горделивый мавзолей над могилой святого покровителя гончаров, в саду, увязая в размякшей земле, бродили горлинки. Пахло набухшими горьковатыми, как миндаль, почками. Слабо благоухали фиалки, притулившиеся вдоль стен и кое-где проглядывавшие между листьями, единственно зелеными в еще голом саду.
Через низенькую дверцу Мухаммед-Султан высунулся было наружу, но остановился, глядя в глубь сада, где за стволами виднелся стройный рубчатый купол, словно бы накрытый складчатой голубой шалью. Любовно воздвигаемый Мухаммед-Султаном и ныне уже завершаемый зодчими, он высился не только над могилой святого, уединенно поместившейся в нише, но и над подземельем, где, исполнив свой земной путь, будут погребены мужчины из семьи Мухаммед-Султана, может быть еще не родившиеся.
Вокруг кустов роз, топорщивших голые колкие ветки, глина, гладкая, утоптанная дождями, затвердевала в легком ветру.
Услышав, как рядом во дворе затопотали лошади, как лязгнула и звякнула чья-то оседловка, правитель торопливо нырнул назад в комнату и пошел медлительно прохаживаться от стены к стене, длинными ступнями давя алый ковер, распахнув зеленый халат, опустив, словно в раздумье, увенчанное белой чалмой длиннощекое лицо.
Таким, не спеша прохаживающимся, хотел он предстать перед Мирзой Искандером, но оказалось, что это прибыл со своей охраной гонец Айяр, тоже вызванный сюда: Мухаммед-Султан слал его к деду с известием о предстоящем выезде внуков.
Айяр вошел не той стремительной поступью, как хаживал прежде, когда казалось, что в любое мгновенье и с любого расстояния он может прыгнуть в седло, а невеселым, но покорным шагом испытанного слуги, послушно готового на любое дело.
Мухаммед-Султан, поглядев в печальные карие глаза гонца, сказал:
— Передашь на словах: на заре я выеду. Мирза Искандер едет при мне. Здесь все оставлю по слову Повелителя. Войска и обозы мои собраны и пойдут следом. Будем поспешать, как указано Повелителем.
Айяр, прижав ладонь к груди, дал знать, что слова понял и передаст, но стоял, ожидая, не прикажут ли еще чего-либо.
Мухаммед-Султан, помнивший этого спорого гонца, ценимого дедом, повнимательнее вгляделся в Айяра и приметил первые нитки седины в рыжеватой бороденке.
— Не рано ль седину пустил, гонец?
— По воле аллаха.
— Да и сам… здоров ли?
— Боли нигде не слышу, милостивейший.
Как велось у Тимура, царевичи, росшие среди воинов, обходились с ними запросто. Таким, запросто беседующим с простым гонцом, Мухаммед-Султан не хотел бы попасть на глаза насмешливому и надменному Мирзе Искандеру, разбалованному мальчишке. Но таким-то и застал его Мирза Искандер, входя в комнату.
Айяр был тотчас отпущен, а сам правитель, не отвечая на сдержанный привет, не оборачиваясь к царевичу, негромко, словно себе самому, сказал:
— Еду к Повелителю.
Мирза Искандер, выжидая, молчал, и Мухаммед-Султану пришлось добавить:
— И тебя поведу.
— На цепи?
— На цепях водят коней либо кобелей, — назидательно возразил правитель.
— А баранов на аркане… На чем же еще вести?
— Понадобится, так и на аркане.
— Не бывало барана, чтоб на аркане волокли от Самарканда до Грузии. Ценен, видать, баран, ценней золота.
— Цену там скажут.
— Сказать скажут, да оплатят ли аркан?
Мухаммед-Султан впервые бегло глянул на Мирзу Искандера, строго стоявшего у двери в туго запахнутом, нарочито смиренном, простонародном черном халате, в черной тюбетейке на голове, с густо обшитой драгоценными ормуздскими жемчугами собольей шапкой в руке.
Как ни досадно было, а может быть, именно оттого, что было досадно, правитель не знал, чем бы ответить на дерзость царевича, ведь арканом он именует всю эту длинную суету, какую тянул правитель почти целый год, разбираясь в проступках, печась о содержании, хлопоча о надежной охране в пути бесстыдника, неслуха, мальчишки.
Велико было поползновение уйти, оборвать досадный разговор. И Мухаммед-Султан не устоял, теми же длинными, но притворно медлительными шагами он двинулся к двери, строго сказав:
— На заре отправимся.
Но он не успел дойти до двери: беззаботно надевая шапку поверх тюбетейки, Мирза Искандер весело согласился:
— Что ж… Когда поведут!..
И еще прежде, чем правитель поспел дойти до своей двери, Мирза Искандер ушел через другую дверь во двор к своему коню, звеневшему серебром цепочек, свисавших с уздечки, тоже искусно украшенной серебряными бляхами, которую царевич ухитрился заказать заочно на базаре, отдав для этого браслеты своих жен, и отлично исполненной русским кузнецом Назаром.
Не дав слугам подсадить себя, Мирза Искандер легко и шаловливо сел в седло.
Его окружили и, едва он тронулся, поехали следом пятеро слуг — двое своих, в таких же, как на царевиче черных ферганских халатах, и трое приставленных от Мухаммед-Султана, облаченных в тусклую самаркандскую домотканину, уже изрядно потертую ремнями поясов: Повелитель Вселенной не любил, чтобы воины красовались убранством, если они не в походе, не в битвах, а только на дальних караулах. Стоять же в стражах самаркандского правителя, когда сам Тимур находился в таком далеке от Самарканда, по мнению Тимура, означало то же, что нести дальний караул. И правитель, памятуя это, не допускал никаких поблажек воинам, лишенным счастья и чести пойти в поход. Да и воины-то здесь были — либо обноски великого войска, уже негодные для новых битв, обессиленные ранами ли, возрастом ли, либо собранные из глухих областей невзрачные, пожилые земледельцы, неловкие в походных делах.
Мухаммед-Султан, увязая, оскользаясь и торопясь, шел по растаявшей глине через сад к достраивающемуся зданию, которое так хотелось ему завершить до отъезда и которое послушно росло и становилось красивее, чем он задумал. Одно это из всех его дел наполняло сердце радостью и гордостью счастливого завершения.
1
Грузная тяжесть зимних снегов еще лежала на горных хребтах. Но по предгорьям кое-где уже проглянули прогалины, и пастух заиграл свою песню на дудочке. Его озябшие, непослушные пальцы тупо толклись по желтой тростинке зурны.
Жалобный напев, как бы мерцая на ветру, порой достигал до гор, до перевала, до тех скользких троп, где даже самые нетерпеливые и удалые путники еще не дерзали ступать по оледенелым карнизам над безднами.
Напев долетал и до приземистых, словно прижатых к земле зимних селений, притулившихся во впадинах предгорий вокруг Сиваса. Долетал и до самого города Сиваса, где над могучей толщей крепостных стен несли караул окованные броней воины султана Баязета.
Пришла весна, и еле внятный, дальний напев пастушеской дудки нежил и тревожил жителей Сиваса, как всегда волнуют и нежат человека первые знаки весны, хотя ветер, сползая с гор, еще по-зимнему холодил камни узких горбатых улиц.
Темные истертые плиты мостовых по-зимнему звонко вторили стуку каблуков, подков и копыт, всей дневной стукотне торгового города. Но сквозь плотную городскую толчею нет-нет да и просачивалась сюда простая пастушеская песенка.
Как первая поросль трав, как запах наволгшего снега гор, как стаи перелетных птиц, высоко над Сивасом проносящихся из лесов и с озер Африки к родным гнездовьям на север, так тонкая жалоба зурны казалась непременным признаком весны, и весна без зурны не могла быть полной.
Близилась весна, пора густых первых дождей, что смоют снег с перевалов, и дороги откроются, в город придут караваны, издалека доберутся сюда долгожданные люди — купцы, гости, — новости.
Но радость весенних предчувствий мешалась с тревогой, ибо поздней осенью прошел слух, будто несметные полчища степняков уже движутся на Багдад, а сам их вожак точит меч в Арзруме, откуда расходилась о нем дурная слава, никому не суля ни мира, ни милости. Вскоре перевалы закрылись, завалило их снегами, заволокло туманами, и мнилось: все опасности так и останутся навсегда по ту сторону гор; мечталось, что весной придут, как искони бывало, караваны с востока — из Колхиды, из Ирана, из стран, славных искусными ткачами и чеканщиками, где тверды руки и зорки глаза серебряников, где быстры пальчики иранских ковровщиц. А подале тех базары Китая, откуда, было время, везли сюда шелка и фарфор, бронзовые зеркала и яшмовые браслеты, бумагу и стекло, золотые узорочья и малахитовые ларцы, и когда случалось такому каравану явиться, наперебой кидались купцы, спеша захватить все эти диковинки, на которые всегда был спрос и которые никогда не падали в ценах. А через те же ворота приходили в Сивас еще и караваны из Индии, приносили парчу и ситцы, благовония и тисненый сафьян, драгоценные камни и жемчуг…