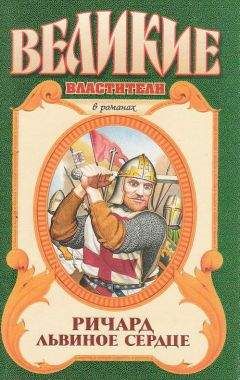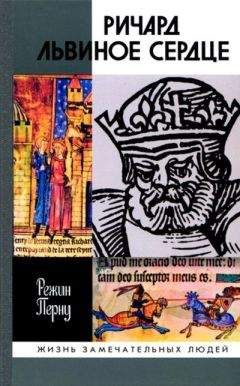по кругу баклагу с вином и глазели на молоденькую служанку, достававшую из колодца ведро с водой.
Воздух был насыщен запахами: конский помет, дым от горящих поленьев, наконец, аромат пекущегося хлеба. В животе у меня заурчало: страсть как захотелось отведать свежего, только из печи, каравая, приправленного маслом и медом. Истекая слюной, потому как в последнее время мне и близко не доводилось пробовать ничего подобного, я отогнал соблазн.
– Cette direction [4].
Сапоги-Кулаки указал поверх моего плеча на дверь в основании башни. В его голосе я уловил нетерпение, и сильный толчок в спину подтвердил правильность моей догадки.
Сверху донесся женский голос, жалобный и строгий одновременно. Мои глаза поднялись к лестнице, поднимавшейся от земли к богато украшенной двери в стене башни. Миниатюрная фигурка – Изабелла, легко узнаваемая по зеленому плащу, – достигла верхней площадки, где ее поджидала пышнотелая женщина. Судя по грозящему пальцу и бесконечному брюзжанию, это была нянька.
Мне очень хотелось, чтобы Изабелла повернулась, увидела меня и приветливо помахала рукой. И снова я едва не окликнул ее, но Сапоги-Кулаки опередил меня, отвесив затрещину. Пришлось прикусить язык. Определенно, что-то тут было не так. Я обшарил двор глазами в поисках кого-нибудь из вышестоящих, майордома [5] или рыцаря, но никого не нашел. Я старался идти как можно медленнее, однако толку от этого не было. Вскоре мы подошли к двери зловещего вида. Рыцарь отпер ее массивным железным ключом, и меня втолкнули в темное, сырое пространство.
Когда глаза привыкли к сумраку, я осмотрелся. Колонны из бревен, толще человеческого туловища, выстроились на расстоянии дюжины шагов друг от друга, поддерживая потолок комнаты – видимо, большого зала. По боковым стенам с обеих сторон шли двери. Я решил, что они ведут в кладовые, хранилища и тюремные камеры. Относительно последнего я уж точно был прав: Сапоги-Кулаки подтолкнул меня к дверному проему, разверстому, как зев гробницы. Я встал как вкопанный. Да, я не родич короля вроде Ифы, но и не какой-нибудь висельник. Мне полагались апартаменты получше.
Раскрыв рот, чтобы возразить, я повернулся к рыцарю.
Он ждал своего часа. Правый его кулак, сжимавший, как стало известно позже, тяжелое железное кольцо, описал дугу и врезался мне в подбородок. Я даже не помню, как упал на пол.
Что сказать о последовавшем за этим жутком отрезке времени? Признаюсь честно, я утратил представление о том, как долго я пробыл в той адской дыре. Тогда мне показалось, что прошла вечность, а на самом деле, как позже сообщили мне, чуть больше седмицы. Поскольку от утоптанного земляного пола меня отделяло лишь тонкое шерстяное одеяло, я постоянно мерз. Я даже готов поспорить, что тамошний холод не уступал тому, что царит в продуваемом всеми ветрами монастыре на Святом острове, о котором я слышал от монахов. Чтобы согреться, я постоянно расхаживал по камере размером шесть на шесть шагов. Я пробирался от двери до задней стены и поначалу выставлял перед собой раскрытые ладони, чтобы не врезаться в камень, а потом, освоившись, плотнее прижимал обеими руками накинутое на плечи одеяло.
Полная темнота стала моим миром. Течение времени отмечал только приход воина с едой и пивом. Понятия не имею, как часто он приходил, судя по урчанию в животе – раз в день. Еще реже один из моих тюремщиков менял полное отхожее ведро на пустое.
За время этих кратких посещений тусклый свет просачивался в мою камеру через внешнюю дверь и цокольное помещение. Почти ослепший, но отчаянно рвущийся на свободу, я поначалу встречал стражников возмущенными протестами: мне-де не место здесь, хоть я и заложник, но как-никак из благородного сословия. Понимали они мою жуткую смесь из ирландских и французских слов или нет, сказать не берусь: воины или смеялись, или молчали в ответ. Вскоре я приучился держать язык на замке, потому как после нескольких таких попыток мне нанес визит Сапоги-Кулаки. Сунув факел в скобу у двери и поставив поблизости солдата с мечом наголо на случай моего сопротивления, он как следует отдубасил меня. Меня подмывало дать сдачи, попытав счастья в бою с двумя противниками. Но я понимал, что это пустая затея. Принимая удары, я сжался в комок, твердя себе, что лучше уж выжить, пусть с синяками и голодным, чем сдохнуть в тюрьме из-за отбитых потрохов.
На следующий день он вернулся, когда стражник принес мне еду, и повторил избиение. Очевидно, он выяснил у одного из ирландских матросов, что «амадан» означает «дурак», и пришел в страшную ярость. От удара ногой по голове я провалился в забытье. Не знаю, сколько я так пролежал, но когда очнулся, то почувствовал муку, какой в жизни не испытывал. При каждом вдохе внутри кололи иглы, намекая на пару треснувших ребер. Лицо покрывала корка из запекшейся крови. Я лишился одного из передних зубов, а живот болел так, словно кузнец со двора добрый час лупил по нему молотом. Клянусь святыми, Сапоги-Кулаки знал, как сделать человеку больно.
Я усвоил урок из этих трепок. С того раза при звуке приближающихся шагов я прижимался к дальней стене и ждал, когда откроется дверь. Осторожный, как дикий зверь, я смотрел, как котелок и чашку ставят на пол. И лишь когда снова воцарялась непроглядная тьма, подползал на четвереньках – да, прямо как голодная собака, – чтобы пожрать оставленную мне скудную пищу.
Один в темноте, избитый так, что не осталось живого места, окоченевший до костей, подыхавший от голода, я был в шаге от потери рассудка. Поначалу спасала молитва, но, не получая на нее ответа день за днем, ночь за ночью, я утратил надежду. Монахи привычны к посту и уединению, но их-то не держат в заточении. Их не лишают света настолько, что даже тонкий лучик слепит глаза, как сполох молнии. На них не испытывает свои умения такой негодяй, как Сапоги-Кулаки.
Забросив молитву, я вернулся в Ирландию, в отчую усадьбу, пытаясь в своем воображении покинуть гнусную темницу. Я не рассказывал пока про дом своего детства в Кайрлинне. Он стоит на самом севере Лейнстера, на южном берегу длинного, узкого полуострова, по ту сторону от которого расположен Ольстер. С тыла его подпирает крутая гора. Мы называем ее Шлиаб-Феа, англичанин произнес бы это как «Шлиав-Фей». Много раз погожими летними днями мы с приятелями взбирались на вершину и, жадно хватая воздух после гонки, смотрели поверх узкой полосы воды, отделяющую Кайрлинн от Ольстера. Когда вырастем, хвастались мы, то пойдем в набег на север

![Астрид Линдгрен - Собрание сочинений в 6 т. Том 4. Мио, мой Мио! [Мио, мой Мио! Братья Львиное Сердце. Ронья, дочь разбойника. Солнечная Полянка]](https://cdn.my-library.info/books/204026/204026.jpg)