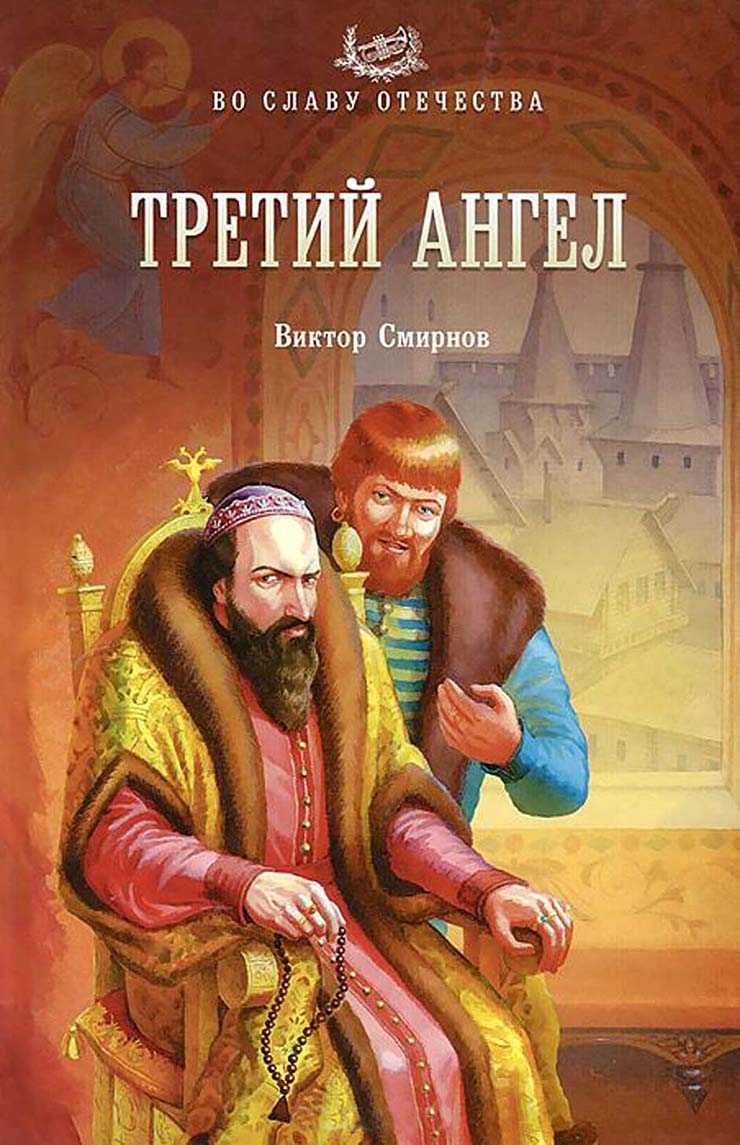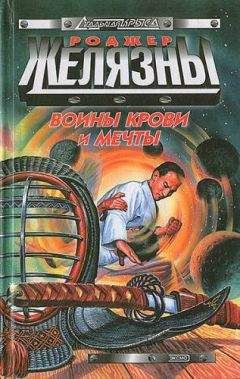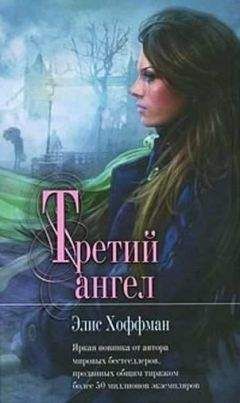гаремному искусству угождать мужчине, прихотливыми ласками сумела привязать к себе царственного мужа, но ненадолго. Быстро пресытясь, царь остыл к новой жене, а после смерти младенца Василия и вовсе отдалил её от себя. Совета с ней не держал, да и царицей не считал, при живой жене продолжал домогаться полячки.
Отселённая от мужа в отдельный дворец, Мария, по слухам, не тосковала. Видали её на улицах Москвы, скачущую верхом в окружении молодых придворных. По ночам из дворца слышались звуки зурны и бубна. Судачили, что царица живёт в разврате, дивились долготерпению царя.
О смерти её говорили разное. Дивились — здоровая женщина двадцати годов от роду — и на тебе! Брат царицы, Мишка Черкасский, приехавший вместе с ней с Кавказа и успевший выдвинуться в опричные начальники, на всех углах кричал, что царицу отравили бояре, на клинке клялся отомстить убийцам. Вместе с Мишкой негодовали Захарьины, родичи покойной Анастасии, дядья и тётки обоих царевичей. После смерти Анастасии они-таки сумели остаться возле трона, породнившись с царским шурином. Со смертью Марии будущее рода Захарьиных опять закрывалось тучами. Рано или поздно царь женится в третий раз. Кто будет та, третья? А главное — какого роду?
Подозревали и другое. Будто бы сам царь, то ли дознавшись про женины похождения, то ли тяготясь черкешенкой и желая более достойного брака, спровадил жёнушку на тот свет. Поди, знай. Опять же про царские дела лучше помалкивать, ноне болтливые языки скоренько обрезают.
В день похорон охочая до зрелищ Москва высыпала поглазеть на пышную процессию и на самого царя, которого не видели уже несколько месяцев.
...Под мерный звон погребального колокола медленно отворились кремлёвские ворота, выпуская похоронную процессию. Первыми шли плакальщицы с распущенными волосами, ведомые известной всей Москве инокиней Василисой. Плакальщицы кривлялись и вопили, изображая горе, вскрикивали, били себя по щекам и заливались настоящими слезами, то затихая, то вновь разражаясь причитаниями.
Чёрный гроб из дубовой колоды, накрытой чёрной звездчатой парчой, несли шестеро ближних государевых опричников с чёрными повязками вокруг голов. За гробом строго по чину шли духовные особы: простые иереи, потом архимандриты и игумены, потом московский митрополит Кирилл, недавно сменивший опального Филиппа Колычева. За духовными следовали бояре и окольничьи, рядясь и пихаясь даже на похоронах.
Показалось царское семейство. Впереди шёл царь, поддерживаемый под руки опричниками, за ним царевичи — чернявый красавец Иван и квёлый болезненный Фёдор. Царь шёл, опустив голову, глядя под ноги, и по пути его народ поспешно валился на колени. Девять лет назад на похоронах Анастасии царь не мог идти сам, стенал и рвался, глухо вскрикивал, падал замертво на руки братьев. В общем с ним горе плакала вся Москва, ещё не зная, что вместе с Анастасией оплакивает светлую половину Иванова царствования. Народ тогда не давал пройти духовенству, нищие отказывались брать милостыню и все были как одна семья.
Девять лет... Велик ли срок? А оглядеться — всё другое. Поменялся царь. Разным знавала его Москва. Помнила сиротой-малолеткой под корыстной опекой Шуйских. Помнила охочим до жестоких забав долговязым вьюношей. Повзрослев и женившись, остепенился, окружил себя новыми друзьями-советниками, обещал всех смирить в любовь. Умилённо вспоминала Москва доблестного покорителя Казани, воротившегося из похода во всём блеске нового величия.
И вдруг пять лет назад что-то стряслось с ним. Ровно затмение нашло! Обвинил всех в измене, отрёкся от власти, подхватился и покинул Москву, забрав всю церковную святость. Забурлил народ, восплакал, пал в ноги, моля воротиться. Взывали: делай, что хочешь, казни кого хочешь, только не оставляй страну на поругание! Упросили-таки. Неузнаваемым воротился царь после зимнего блуждания по подмосковным сёлам — постаревший, облысевший, с горящими жёлтым огнём, ввалившимися глазами. Тогда-то и прозвучало впервые страшное слово — опричнина, чёрным клином распоровшее страну на две части.
Ране ходил царь по московским улицам безо всякой охраны, только впереди шёл провожатый с барабаном. Ныне без ватаги головорезов-опричников шагу не ступит. Земцу на опричную сторону лучше не соваться, тотчас обступят чёрные. Наглые, смелые, вечно вполпьяна. Кто таков? Почему тут? Аль задумал что? Будто врага поймали. Запутают вопросами. Ляпнешь, что невпопад — мигом очутишься в застенке. А там, пиши пропало. Утром выкинут труп, чтобы прибрали родные.
Сбился у жизни правильный ход. Стало всё зыбко, тревожно, смутно. Развелась тьма-тьмущая пустого, бездельного народу: нищих, бродяг шатающихся. Девы гулящие, размалёванные как куклы, средь бела дня тянут за зарукавья, отпихнёшься — кричат в спину непристойности, а то и кинут чем. По ночам лихие люди стерегут случайных прохожих. Да, тяжко стало жить на Москве. Колючей верёвкой захлестнула горло людская злоба и зависть. Страна поделилась на волков и овец. Исчез закон. И уже нет никого из тех, кто шёл рядом с Иваном за гробом Анастасии. Одни сложили голову на плахе, других уморили в подземных тюрьмах, третьи успели бежать. Заместо их насыпались как из дырявого мешка новые люди, грызясь возле трона, спеша урвать чужое, донести, сжить со свету.
И что ждёт страну впереди — никому неведомо.
На десятый день после похорон царицы, сократив сроки траура, царь разрешил заниматься делами. На четырнадцатый день повелел собрать земскую думу. Москва воспрянула духом, увидав в этом добрый знак, возвращение к доопричным временам. Уцелевшие думцы рядили иначе — ждали худшего. Кровоточил в памяти прошлогодний сентябрь. По сию пору вспомнить страшно про то, как втащили в Золотую палату конюшего Ивана Петровича Челяднина-Фёдорова, самого знатного и уважаемого среди думских бояр, как в наступившей мёртвой тишине царь вкрадчиво вопросил:
— Ты ведь на моё место метился, Иван Петрович? Изволь!
Живо скинул златокованую царскую ферязь с жемчуговыми пуговицами и накинул её старику на плечи. Снял отделанную соболем золотую шапку, утвердил её набекрень на голове несчастного, потом силой усадил боярина на литой серебряный трон и склонился в глумливом поклоне:
— Здрав буди, великий государь!
Разогнувшись, царь внезапно выхватил нож и вонзил его в горло боярина. Кровь залила рытый бархат, перекрасив его из алого в черевчатый. Чёрными коршунами кинулись добивать конюшего опричники. Истыканное ножами тело, колотя головой о ступени, вытащили за ноги из дворца и, раскачав, швырнули на навозную кучу возле конюшен. Дворовые псы, урча, впились в труп, потащили по двору голубые кишки.
В тот же день началась неслыханная бойня. Убивали лучших и знатнейших, вырезали целыми семьями — Колычевых, Катыревых, Хохолковых, Троекуровых, Ушатых, Сицких, Морозовых, Карповых, Борисовых, Образцовых и ещё многих. Убивали дома, в