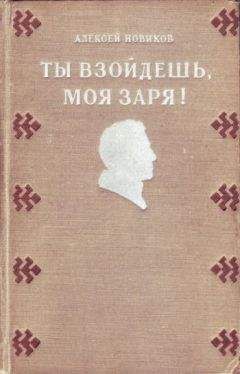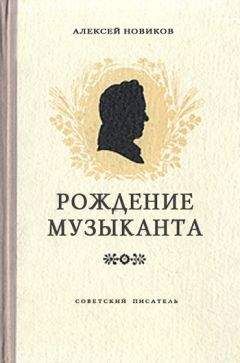Ознакомительная версия.
Московские витии из словено-россов единодушно питали недоверие к Петербургу. Там, на Сенатской площади, погибли скороспелые, чуждые народу замыслы, утверждал Погодин. Не то древняя Москва, колыбель, оплот и надежда русского народа. Не то первопрестольный град Руси, хранитель благочестия, ковчег мудрости, а самое главное – кладезь народного простодушия и смирения. Ревнители дедовых устоев готовы были видеть в Петербурге наваждение сатаны.
Но тут решительно возражали им московские философы, взиравшие с надеждой на Запад. Начинался спор, по-московски долгий и жаркий. Друзья-противники охотно ссылались на историю, на народ. Но как те, так и другие народа одинаково не знали, ибо предпочитали словопрения в уютных кабинетах и дальше московских гостиных не выглядывали.
Поклонники западной учености рассуждали о судьбах русского народа, оперируя Шеллингом и Фихте. Словено-россы, столь же упорно открещиваясь от живой действительности, взывали к старине. Замена туманных немецких формул декларациями о любви к Москве, к сарафану и даже к солянке по-московски не способствовала выяснению истины. Противники во мнениях охотно объединялись, впрочем, на любви к шампанскому. Шампанское пенилось, умы кипели, одна сходка сменялась другой.
По четвергам москвичи самых разных лагерей съезжались к княгине Зинаиде Волконской. В ее особняке на Тверской бывала вся Москва, с той существенной поправкой, конечно, что в обитель «Северной Корины» не ездил мастеровой люд из московских слобод. Точнее было бы сказать, что у Волконской собиралось все избранное общество. Однако можно ли отнести к этому обществу полупрощенного правительством, неслужащего дворянина Александра Пушкина? Часто езжал сюда и Сергей Соболевский, хотя по полицейским справкам значился он атаманом либеральной шайки.
Соболевский и повез Глинку к Волконской.
– Наша Зинаида, – рассказывал по дороге Соболевский, – прославилась не только красотой, но и мистической близостью к покойному царю-сластолюбцу. А ныне вышла по той должности на пенсион и на покое строчит ученые повести о древней Руси. Наши умники вещают в похвалу княгине, что в этих повестях виден утонченный вкус художницы, воспитанной в Италии. Кроме того, сочиняет княгиня оперу на французский сюжет. Ну, а поет!.. Да это ты сам услышишь.
Съезд у Волконской был в разгаре. Величавый швейцар едва успевал распахивать двери. Все новые и новые гости поднимались по мраморной лестнице, устланной коврами.
У «Северной Корины» не играли в карты. Чопорный аристократизм делил здесь досуг с искусством, мужи университетской науки внимали великосветской болтовне. Юноши толпою стекались к Волконской, соревнуясь со старцами, сданными из петербургских высших сфер в Москву, как в архив.
Соболевский подвел Глинку к хозяйке дома.
– Позвольте представить, княгиня, моего петербургского приятеля и музыканта. Он счастлив засвидетельствовать вам…
Перед Глинкой стояла высокая женщина лет за тридцать, красота которой была воспета Пушкиным.
– Я льщу себя надеждой, – приветливо сказала Глинке Волконская, – что наше знакомство даст и мне возможность насладиться вашим искусством, о котором наши общие друзья так много говорят. Нам, русским, дорог каждый отечественный талант.
Обласканный хозяйкой дома, Глинка замешался среди гостей. Едва встретил он Мельгунова, как все были приглашены в концертный зал. На боковых колоннах, обрамлявших миниатюрную эстраду, красовались портреты Мольера и Чимарозы. «Смеясь, говори истину», – вещала надпись над эстрадой, сделанная на латинском языке. Гости, заполнившие зал, перебрасывались французскими фразами.
– Мы готовим тебя на десерт, – шептал, склонясь к Глинке, Мельгунов. – Воображаю бурю восторга…
– Если ты не замолчишь, сейчас сбегу!
Мельгунов, кажется, принял угрозу всерьез и на всякий случай, чтобы общество не осталось без десерта, крепко взял Глинку за руку.
На эстраду вышел сухощавый господин и сел к роялю. Волконская со свободой истинной артистки облокотилась на инструмент.
– Я спою романс, всем вам известный. Но тем самым мы отдадим сердечную дань отсутствующему поэту и присутствующему сочинителю музыки.
Она любезно склонила голову по направлению к аккомпаниатору. Аккомпаниатор в свою очередь низко ей поклонился.
Музыка началась. Волконская запела:
…Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан…
Глинка впервые слышал эти стихи Пушкина, положенные на музыку. Он прислушивался к могучему контральто певицы. Тонкий артистизм ее превосходил все, что ему пришлось о ней слышать.
А едва кончилась пьеса, Мельгунов стал повествовать другу о том, как княгиня исполняла этот романс в присутствии Пушкина.
– Вспыхнул Александр Сергеевич, как красная девица, – стало быть, дошло до сердца.
– Изрядная пьеса, – подтвердил Глинка, что-то обдумывая. – Так это и есть ваш Геништа? – он показал глазами на аккомпаниатора.
Автор музыки безучастно сидел за роялем. Гости наперебой изъявляли восхищение певице.
– «Из «Танкреда»! Из «Танкреда»! – все настойчивее раздавались голоса.
Речь шла о той опере Россини, которая составила первую его славу. Мелодии «Танкреда» пела вся Италия. Несравненная дива Паста, явившись на сцене в образе храброго влюбленного рыцаря, завоевала «Танкреду» Париж и всю Европу.
В музыкальных летописях числилась еще одна непревзойденная исполнительница роли Танкреда. То была знатная путешественница, прибывшая в карете с княжескими гербами из России. Разумеется, Зинаида Волконская не выступала на театральных подмостках, только избранная публика великосветских салонов могла слушать русскую певицу. Теперь, в Москве, она охотно возвращалась к «Танкреду», сызнова переживая отлетевшую славу.
– Начинаем? – спросил Геништа, когда зал затих.
Волконская пела выходную арию Танкреда, о которой говорили, что она навеки останется самой распространенной в мире. Но прошло всего пятнадцать лет со дня премьеры «Танкреда» – и полузабытого рыцаря сменили новые кумиры. Страшно сказать – трагического рыцаря потеснил разбитной цирюльник из Севильи. И никто другой, как сам Россини, был в этом виноват.
Волконская пела. В ее исполнении восхищенные слушатели ощутили и безумную любовь Танкреда к юной Аменаиде и горечь изгнанника при возвращении в неблагодарное отечество. Голос певицы звучал, как виолончель, вышедшая из рук старинных мастеров Кремоны. Раздались единодушные аплодисменты. Мельгунов хотел ринуться к эстраде, но Глинка удержал его.
– Дураки кричат, – сказал он, – будто только в Италии рождаются певцы. Сколько же беспорочных голосов водится у нас! Хоть бы и княгиню взять, да если бы еще пела она по-русски.
– Перевода нет, который бы удовлетворил княгиню, – объяснил Мельгунов. – Как поэты ни состязаются, она всех бракует.
– При чем здесь перевод? – удивился Глинка.
– А ты о чем говоришь? – переспросил Мельгунов. – Об арии Танкреда? Вот я и докладываю тебе, что нет достойного перевода. Как же петь княгине по-русски?
– Вовсе я не о том толкую, – рассердился Глинка, – но стократ сильнее был бы эффект, если бы пела княгиня не с итальянской аффектацией, а в русской манере…
Тут он вспомнил, что еще ничего не говорил другу о своих опытах в области русской системы пения. Но обстановка была неподходящей для объяснений.
Хозяйка дома, щедро угостив собравшихся своим искусством, теперь искала кого-то взглядом. Соболевский ей помог. Он взял Глинку под руку и повел на эстраду.
– Что вам угодно слушать? – с готовностью спросил Глинка у Волконской. – Что-нибудь из Россини?
– Почему вы думаете, – «Северная Корина» улыбнулась, – что одному Россини отдана моя любовь? Может быть, мы поладим на Бетховене?
Москва была избалована виртуозами. Поклонение Бетховену быстро распространялось среди молодежи, посещавшей дом Волконской. Каждый знал сонату, которую играл Глинка. Фортепианист не гнался за блестящими эффектами. Его мягкая и сдержанная манера исполнения отнюдь не препятствовала раскрытию взволнованной мысли Бетховена.
– Благодарю вас, – откликнулась Волконская, едва Глинка кончил. – Я никогда не слыхала Бетховена в таком понимании, но сердцем чувствую, что вам дано вдохновенное прозрение.
– Когда говорят о всечеловечности Бетховена, – отвечал Глинка под общий говор, – я думаю о том, что он прежде всего был великим немцем. Вне родной стихии не может творить талант. Именно потому великое в Бетховене стало достоянием не только немцев, но и всего человечества… Уважение к искусству других наций есть правило для народа, обладающего собственными талантами.
– А ваши композиции, господин Глинка? – Волконская обратилась к гостям, окружившим рояль. – Не правда ли, господа, мы все с нетерпением ожидаем?
Ознакомительная версия.