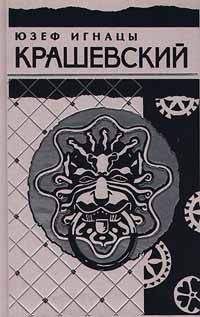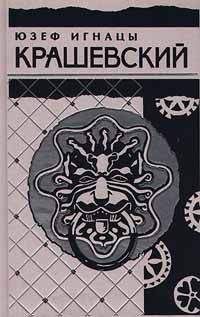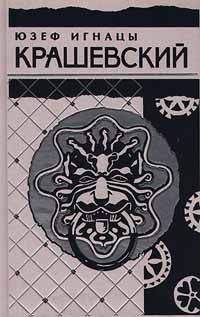Узнав, что Келпш говорит по-немецки, секретарь очень обрадовался. Тольтини, хотя и был итальянцем, но находясь с детских лет при Венском дворе, имел возможность изучить немецкий язык, которым он владел вполне свободно.
Разговор начался с похвал; секретарь восторгался пышностью приема, изысканностью блюд, утонченностью вин и роскошным фейерверком.
— Кажется, все это не произвело на нашу королеву никакого впечатления, так как каждого из нас удивляет выражение печали на ее лице, — произнес Келпш.
Тольтини обернулся к нему.
— Почему это вас удивляет? — прервал он. — Ведь королева это ребенок, которого любили, лелеяли, который никогда не расставался с матерью. Одна мысль о том, что ей придется расстаться с ней, наполняла ее горестью. А теперь, когда ей придется остаться одной среди чужих…
— Мы тоже, — произнес с подозрительной двусмысленной улыбкой Келпш, — вовсе не удивляемся ее естественным переживаниям, мы сочувствуем ей всей душой и хотели бы только знать, чем рассеять ее тоску и печаль.
Тольтини со страхом осмотрелся вокруг и нерешительно произнес:
— В данном случае единственным лекарством является время.
И сразу, переменив тему разговора, итальянец начал расспрашивать кравчего о короле, о его характере, вкусах привычках и т. д.
Келпш как будто обрадовался этим вопросам.
— Не только я, — произнес он, — но и все в один голос скажут, что нет человека лучше и добрее нашего короля, но в этом-то именно величайший его недостаток, что он слишком добр и мягок.
Тольтини со своим характерным, свойственным ему движением, приподнял брови и опустил их. При этом движении парик его то подымался, то спадал вниз.
— Что ж! — произнес он. — Для короля, рыцаря края, который должен постоянно воевать, защищаться, которому нужно много энергии, лишняя доброта может быть вредной, но в домашнем обиходе…
Фразу эту он закончил тем же характерным движением головы и лба и на мгновение задумался.
— Королева, которую мы привезли вам — это жемчужина нашего двора, тоже обладает необыкновенной добротой, но, как избалованная женщина, привыкшая поступать по-своему, только постепенно может приноровиться к чужим требованиям.
Секретарь произнес эти слова конфиденциально, как будто хотел тоном и выражением лица доказать все значение этого доверчивого сообщения.
— Я надеюсь, — возразил Келпш, — что ей не придется жаловаться на деспотизм нашего повелителя.
Тольтини взглянул на него с благодарностью.
— Я останусь здесь при королеве, — произнес он. — Я привык к Вене, мне очень трудно было расстаться с этим городом, но королеве нужен был человек, которому она могла бы доверить свою переписку. Царь-отец желал этого, и я должен был пожертвовать собою; впрочем я сделал это охотно.
— Вы оставили семью в Вене? — спросил Келпш.
— Я? Семью? — засмеялся Тольтини. — Никогда ее не имел… Родители давно уже умерли, а жены у меня никогда не было. Я посвятил всю свою жизнь кесарю… и предан ему душой и телом.
Затем Тольтини удачно подобрав слова, перешел к дальнейшим расспросам о короле.
Деликатно, осторожно, но все-таки слишком рано для такого короткого знакомства, он коснулся отношений короля к прекрасному полу.
Келпш пожал плечами.
— Король наш, — воскликнул он, — воспитан благочестивой матерью, по натуре своей робкий, никогда не выказывал ни малейшей наклонности сблизиться с женщинами.
— А, — подхватил Тольтини, — но ведь польский двор еще со времен Владислава и Казимира известен своими любовными похождениями.
— Не знаю, — возразил Келпш, — так как меня тогда еще не было при дворе, но что касается короля, то он воспитывался, как девица…
Тольтини слушал с недоверием.
— Это невероятно, — сказал он. — Ведь должен же король чем-нибудь увлекаться, так как нет человека, у которого не было бы какого-нибудь увлечения. Может быть, охотой или лошадьми?
— Король всему этому уделяет очень мало времени. Если вспыхнет случайно война, то он, конечно, станет во главе войска, так как наш король должен быть и гетманом.
Итальянец замолчал и через некоторое время начал расхваливать богатство и изящество, сопровождавшие выступления короля и его свиты.
— Да, изящество это слабость нашего пана, — прервал Келпш. — Он любит изящные, великолепные наряды, все, что придает человеку более благородную и более приятную внешность.
— Любовь к изящному присуща всем знатным, — произнес Тольтини.
— Ведь и король принадлежит к царствующему дому, — ответил Келпш.
Во время этого разговора произошло какое-то движение на галереях. Последние огни потухли и церемониймейстер шепнул королю, что пора вернуться в зал, в котором должна была совершиться еще одна последняя церемония.
Нигде свадебные подарки не отличались такой роскошью, как в Польше. Без подарков нельзя было обойтись; тем более что, кроме королевы, которой подарки полагались, согласно обычаям страны, король должен был преподнести кое-что на память об этом дне царице-матери, ее сестре, а также младшей сестре своей жены.
Церемония раздачи подарков происходила обыкновенно на следующий день после венчания, но императрица торопилась возвратиться в Вену, а потому пришлось поспешить.
Подарки жене король передал уже с самого утра, теперь же он передал подарки императрице и двум княжнам, а вслед за ним сенаторы начали по очереди подходить к королеве и подвергли к ее стопам разнообразнейшие дары.
Сановники, воеводы, кастеляны, даже некоторые епископы выкладывали свои дары, щеголяя при этом латинским и итальянским языком.
Драгоценные цепи, ожерелья, пояса, серебро, кубки, медные тазы, ложки, драгоценные меха, — восточные ковры, узористые покрывала, парчи кучами были сложены у ног молодой королевы.
Императрица, сестра ее и молодая эрцгерцогиня восхищались при виде этих богатств, но королева глядела на все это равнодушно, чуть ли не с презрением, и царица мать несколько раз шепотом старалась уговорить ее выразить хотя бы улыбку благодарности на своем лице.
Мать ее несколько раз выручала и заговаривала с подходившими к королеве, стараясь смягчить неприятное впечатление, произведенное холодностью и гордостью самой королевы. Король Михаил также несколько раз выручал жену, сидевшую в оцепенении, как будто не интересуясь ничем, что кругом происходило.
Тем, которые обращали на это внимание, шепотом отвечали:
— Чего вы хотите от нее! Она в первый раз расстается с матерью. Дайте ей прийти в себя от боли разлуки с родными.
Развлечения и танцы должны были продолжаться, музыка заиграла, король дал знак и молодежь начала плясать, но холодная атмосфера, обвевавшая всех, прерывала и парализовала веселье и танцы, которые скоро совсем прекратились, так как королева жаловалась на утомление, а царица-мать оправдывалась необходимостью готовиться к отъезду.
Только мужчины уселись за столами и, разгоряченные вином, продолжали пить за здоровье новобрачных, а по углам архиепископские наушники распространяли разные слухи… и собирали сплетни.
Почему это только им одним понравилась эта королева, которая с такой гордостью и с таким равнодушием вступала в страну, в которой она должна была царствовать? Это можно было объяснить только инстинктом людей, заранее предугадывающих, кто может послужить орудием для их целей.
Друзья же короля глядели на нее с тревогой в сердце.
Со дня прибытия королевы Элеоноры в Варшаву началась новая жизнь. Когда король, удрученный сопротивлением и явной или тайной неприязнью, оказываемыми ему королевой на каждом шагу, возвращался в свои покои с желанием отдохнуть, то и там он встречал лишь молчание, неприязненные взгляды и противоречие во всем. С трудом удалось повлиять на королеву, чтобы она при официальных приемах скрывала свое отвращение и презрение к мужу. Лицо ее прояснялось только тогда, когда она получала письма из-за границы и оставалась наедине вместе со старым Тольтини, чтобы написать ответ. Она не проявляла никакого желания познакомиться со страной, так радушно и сердечно принявшей ее, ни с кем не хотела ближе познакомиться и ничем не интересовалась.
Все, что было дорого королю, и все, к чему он стремился, вызывало в ней только одно отвращение. Для нее существовала только та горсточка людей, которую она привезла с собою в Польшу; секретарь Тольтини был ее доверенным и правой рукой. Озлобленная, замкнутая, она одиноко проводила свои дни. Чтобы скрыть это от людей, король нередко заходил в комнаты жены и старался, чтобы их часто видели вместе. Никто не видел их жизни вблизи и не был свидетелем их интимных отношений. Заметно было только, что когда король входил в комнаты жены, там наступала тишина, как будто они не находили темы для разговора. Иногда только доносились через двери гневный голос королевы и тихий успокаивающий шепот короля… а затем опять наступало гробовое молчание. Михаил был бледен, удручен и задумчив и только оставаясь один чувствовал себя свободным. Он никому не рассказывал о том, что ему приходилось переживать: гордость и стыд не позволяли ему этого. Проницательные взоры придворных с самого начала заметили холодные отношения между супругами, но надеялись, что все переменится к лучшему. Между тем видно было, что с каждым днем их отношения обострялись.