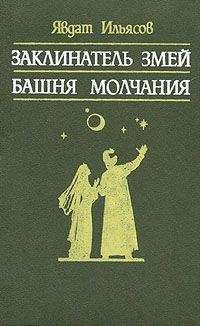…Айханцы решили: пока монголы не оправились после вчерашней неудачи и к ним еще не подоспела подмога, нужно сделать последний рывок, оставить крепость, пробиться сквозь редкие ряды осаждающих и уйти по древним тропам на восток.
Волнение. Радость в глазах, надежда в сердцах. Всколыхнулись мечты. Там, в диких песках, множество безлюдных городов, опустевших давно, при арабах. Ни дождь проливной, ни воющий ветер не сумели размыть, расколоть, распылить плотную глину крутых исполинских стен. Спокойно и прочно, как врытые камни, стоят веками, вразброс по соленой земле, где чутко спящий дворец, где башня немая, где храм. Там тьма засыпанных колодцев – их надо найти. Там травы солнечных пастбищ. Скот расплодится, послужит основой для новой, свободной пастушьей жизни.
Не будет у них важных вельмож, чванных начальников, жадных купцов – псов спесивых. Заживут единой семьей, как жили предки, скотоводы кочевые, почитатели огня. Детей оденут в шкуры зверей, приучат к простору, к буре, к схваткам на сыпучих барханах. Чтоб росли неукротимыми, гордыми, с мышцами, твердыми как сталь. Чтоб в их голосах слышался вопль пустынной рыси. Чтоб знали труд и не знали денег.
Татары туда не придут, осядут в захваченных городах – зачем им теперь бесплодная степь; их можно бить на караванных дорогах – нападать, отнимать, что везут, исчезать, хитро запутав след.
– Что ты скажешь теперь? – воскликнул Джахур.
– Ладно, – кивнул Бахтиар без особенной радости, хотя и нашел затею неглупой. – Главное сейчас – спастись, уйти отсюда, пока не поздно. А там жизнь покажет, что делать.
Сборы. Споры, что взять, что оставить. Споры, скоры движения – медлить нельзя. Торопитесь! Нас ждут свобода и счастье, край обетованный, приволье, достаток, любовь. Скатаны войлоки, увязаны вьюки. Уложены в тюки палатки, платки, полотно, хлопчатое волокно, толокно в тугих узлах. Скот согнан в кучу, повозки выстроены подле ворот. Назначены отряды – головной, замыкающий и отвлекающий.
Отвлекающий должен напасть на вражеский лагерь с дальней северо-западной стены, вызвать на себя удар озлобленных татар, сковать их боем, задержать. Чтоб остальные, пряча обоз, детей и женщин в середине, смогли без помех вырваться наружу, пересечь правую ветвь Гавхорэ. Благо, перед воротами – свободный проход. «Золотой мост» оставлен, а засады сняты – не до них теперь врагу.
– Готовы? – крикнул Бахтиар.
– Готовы!
Запричитала, не выдержав напряжения, какая-то старуха. Замолчи! Нашла время голосить. Руки туркмен – на засовах ворот. На башне – кипчак Уразбай; он следит за татарами, выжидая миг, удобный для выступления.
Кажется, пора. Благослови, аллах! Уразбай хотел уже взмахнуть хвостатой пикой, чтоб дать войску знак, как вдруг под ногами айханцев глухо загудела земля.
Гул нарастал. Ветер принес с полей визг и топот. Кипчак бросил пику, лег, закрыл синими от холода руками скуластое лицо. Что случилось? Поспешно взобравшись наверх, Бахтиар увидел необозримую темную лаву, стремительно набегающую из белой мглы. Конница. Неужто помощь? Но – кому? Загалдели, забегали внизу татары.
Под стены Айхана явился хан Джучи.
Жгучи глаза у Джучи.
– Голодный? – Он подступил, косолапо ступая, к старшему сыну, ткнул плетью в живот. – Зарежь и съешь Чормагуна!
Орду-Эчен еще ниже склонил виноватую голову. Надо молчать. Отец его простит. Но Чормагун – обречен.
– Когда пресветлый Чингиз, – продолжал грозный хан – ходил громить Чжун-Ду [7], столицу китайских правителей, у войска после долгой осады вышли до конца все припасы. Голод. Смерть. И что же? Государь назначил на убой одного из каждых десяти. Тем и спас остальных. И захватил богатый город. Кто первый лег тогда под нож? Ответь, старый хвастун.
– Самый никчемный? – вздохнул Чормагун.
– Ты угадал свой конец.
Чормагун побледнел. Плохо. Очень плохо. Есть, конечно, его не станут. Хан изволит шутить. Но закатать в толстый войлок и удушить могут вполне. Джучи человек горячий. Из тех, кто целится, уже спустив тетиву. Спохватится, проклятый, да поздно. Допустим, накажет сына Чингиз – что от этого Чормагуну?
– Хорошо, – уныло сказал старик, надеясь подкупить Джучи покорностью. – Ведите. Я готов. И впрямь, на что годится бездарный воитель? Лишь на жаркое.
Тоже изволил пошутить.
Бату возразил:
– Жаркое? Не выйдет. Сухой, костистый. Собаки и те не угрызут.
– Да? Пожалуй, – кивнул отец. – Что же делать с тобой, Чормагун? К чему тебя приспособить?
Хан долго расхаживал перед грудой черных кирпичей – неуклюже переваливаясь, наклонив туловище вперед, слегка откинув голову и спрятав руки за спиной. Простая осанка, не ханская. Походка пастуха. Так держится на твердой земле всякий монгол, с трех лет не слезающий с лошади. Зато не всякий монгол, даже рожденный в седле, обладает такой же властью.
Устав ходить, Джучи уселся на закопченный камень – обломок мечети, упер правый локоть в колено, обтянутое потертой кожей штанины, зажал большой ладонью жесткий рот, прикрытый с двух сторон редкой порослью темных висячих усов.
Раздумье. Что делать? Чормагун потерял много людей. Сгубил весь обоз, осадные орудия. Главное, он не сберег доверенный ему запас гремучей пыли. Джучи предполагал создать в Айхане тайное хранилище боевых средств для осады Ургенча. Затея сорвалась. Чормагун – преступник. Преступнику – смерть. И будь это два-три года назад, его бы уже завернули в кошму – он княжьего рода, грех проливать княжью кровь. Она священна. Столь важных особ почтительно душат.
Но теперь Джучи осторожен.
Не поднимешься – не упадешь, говорят китайцы, не упадешь – не поднимешься.
Хватит дурить. У Джучи немалый опыт неудач. Сколько бед он навлек на свою удалую беспутную голову слепой горячностью, плохо обдуманными поступками. Отец его ненавидит. Джучи – дерзкий. Джучи – непослушный. Джучи норовит выдернуть из-под родителя белый войлок, знак царской власти.
За что любить наглеца?
Зато каган жалует Чормагуна, сподвижника по первым походам. Тронь Чормагуна – Чингиз, который только и ждет, к чему бы придраться, может подослать гостей, отнюдь не намеренных распевать перед тобой мактал, хвалебную песню.
Чормагун – виноват? Да! Но у сильных виноват не подлинно виновный. Виноват неугодный. Сколько раз сам Джучи выручал своих подлых приспешников и губил людей хороших, честных, но чужих.
Пусть живет Чормагун. Может, еще пригодится, поддержит в суровый час? Что толку теперь от изрубленных сотен, украденных стрел? Их не вернешь. И этот Айхан – что он даст? Жалкая крепость. То ли дело – Ургенч. Довольно рисковать по-пустому. Особенно сейчас, когда перед ним – целый мир. Когда, точно двери в сказочный дворец, открылись пути на закат, в богатые страны, обреченные лечь под копыта татарских коней. Когда Джучи вот-вот избавится от несносной отцовской опеки.
Он уйдет в недоступную даль.
Он создаст свою великую державу.
Он, конечно, не знал, что три года спустя будет убит по тайному приказу Чингизхана.
– Подойдите ко мне, Орду, Бату и Чормагун!
Трое смиренно приблизились, в знак крайнего самоуничижения рухнули на колени, робко опустили зады на пятки. Человек, уважающий не только других, но и себя, садится по-иному: скрещивает ноги или остается на корточках. Дикарь, пренебрегающий правилами поведения, вытягивает обе ноги.
– Ты, Бату, поедешь со мной. Учиться тебе тут нечему. Разве что глупости? Медлительности? Расхлябанности? Вредная наука! Будешь брать Ургенч – увидишь настоящую войну. А здесь – игра, забава для юношей, еще не ставших мужчинами, и для стариков, уже переставших быть ими. Вам, Орду и Чормагун, придется продолжать осаду. Я дам людей. Оставлю запас новых стрел, два-три легких орудия. Но съестных припасов не оставлю. Сытый волк ленив, голодный – проворен. Хотите есть? Возьмите у них! – Джучи показал плетью на крепость. – Если за эту луну не захватите город – пусть силой, пусть хитростью… вашу судьбу решит собственная нерадивость. Я дважды простил тебя, Чормагун. Помнишь, где это было в первый раз? Хорошо. Сейчас – второй. Трижды, ты знаешь, татары не прощают.
Джучи встал, крикнул:
– Айхан надо взять! Пусть в нем даже горсти зерна не наберется – он должен быть нашим. Чтоб никто не думал, будто татары могут отступить, бросив дело на половине. Под Отраром копались полгода. И что же? Ушли ни с чем? Нет! Другие ушли бы. Мы – взяли. И теперь всякий знает: если татарин вынул нож, он не спрячет его, не испачкав кровью. Он ударит. И удар этот – неотвратим. Ясно? Все! Бойтесь и повинуйтесь.
Опять – неизвестное. Незнакомое. Непонятное. Не видно конца испытаниям, выпавшим на долю защитников крепости. В Айхане с утра творится что-то странное. Вот уже три часа не смолкают над головой пугающий вой, свист, писк, тонкое замирающее пение.