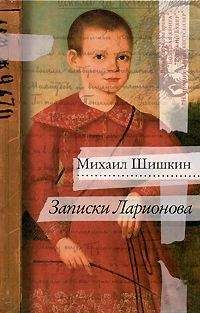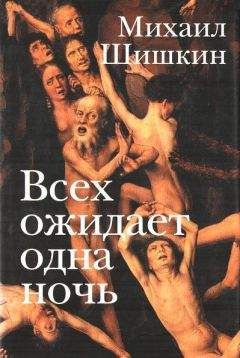Ознакомительная версия.
Крылосов задохнулся, схватился руками за горло и какое-то время сидел молча, сгорбившись, теребя пальцами воротник.
– Я не совсем понимаю, Алексей Владимирович, зачем вы все это мне рассказываете, – сказал я. – Скажите, что я могу сделать для вас?
– Умоляю вас, поговорите с ней! Я для нее больше никто. Я будто умер для нее, вы понимаете? А вас она послушает, обязательно послушает! Вы ведь для нее близкий человек, я знаю, она к вам привязана! Помогите спасти ее!
– Да с чего вы взяли? Я действительно бывал у Екатерины Алексеевны, но что ж из того?
– Александр Львович, вы же видите, что происходит! Начались какие-то разговоры, ползут грязные сплетни, слухи! Я ведь ничего про нее, про мою дочь, не знаю! Что с ней, что у нее на уме?
– Я убежден, Алексей Владимирович, что между вашей дочерью и штабс-капитаном Ситниковым ничего нет. Степан Иванович – человек порядочный и ничего низкого себе не позволит.
– Поговорите с ней! Вас-то она послушает! Катя, поймите, для меня все!
– Да что я смогу ей объяснить? И вообще, захочет ли она меня слушать?
– Поговорите, Александр Львович, я прошу вас! Я хочу спасти ее, вы понимаете?
Я сидел молча, не зная, что сказать, куда смотреть.
Потом он прошептал:
– Извините. Извините меня ради Бога. Сам не знаю, что я тут говорил перед вами. Не обращайте внимания. Я в таком состоянии, что сам не понимаю, что делаю. Простите меня.
– Я могу идти? – спросил я.
Он устало кивнул головой и принялся очинивать перо.
Следующее воскресенье выдалось хмурое, и все предвещало дождь. Я проснулся позднее обычного, с тяжелой головой, в дурном настроении. За то, что, подавая мне умываться, Михайла расплескал воду из таза, я набросился на него.
Одевшись, спустился вниз. Нольде давно позавтракали. Улька смахивала крошки с уже пустого стола. Она раздобрела, живот ее округлился. Беременность сделала Ульку еще уродливее. Кожа ее, и без того нечистая, покрылась какими-то струпьями. Носила она тяжело, и доктор сказал, что она может выкинуть.
Нольде был у себя, было слышно, как он читал своему слепому отцу газеты. Амалия Петровна поила на кухне чаем с сухарями двух оборванных старух. Она вечно кормила каких-то погорельцев, странниц, нищих, сирот, слепых. Этот народец, пользуясь ее добротой и неосторожностью, не ограничивался одним чаепитием, и в доме то и дело пропадали какие-нибудь вещи. Как-то одна набожная старушка, крестившаяся каждую минуту, все благодарила Амалию Петровну за чай и бараночки и все уверяла, что за доброту ей будет уготовано царствие небесное, а потом выяснилось, что пропала какая-то шкатулка с кольцами и серьгами, доставшимися Амалии Петровне от ее матери. Бедная хозяйка моя плакала два дня подряд, но все равно продолжала принимать у себя всех без разбору.
Я послонялся по дому и снова поднялся к себе пить кофе.
Сидел у окна и смотрел на подметенный двор. Помню, что я вдруг подумал о том, что если мне придется в тот день умереть – мало ли что бывает, – то последнее в жизни моей будет все то, что и внимания-то не стоит: как с утра я повздорил с Михайлой; старуха, что сосала беззубым ртом сухарик и держала блюдечко на четырех растопыренных черных пальцах, вместо пятого был какой-то узелок; скрип лестницы; остывший кофе; хмурое небо; вот этот подметенный унылый двор да Улька, что вышла посидеть на лавке и задремала, держа руки на животе, в котором зрела еще одна бессмысленная лакейская жизнь.
То, что произошло потом, было для меня полной неожиданностью. К нашим воротам подкатила коляска, и из нее вышел Ситников. Увидев меня в окно, он как ни в чем не бывало улыбнулся, хотя последние дни мы с ним вовсе не разговаривали.
– А я к вам, Александр Львович! – крикнул он.
Он поднялся ко мне, сбросил накидку, снял фуражку и стал промокать платком вспотевшую пролысину.
– Что вы намереваетесь сегодня делать? – спросил он.
– Да так, ничего особенного.
– Ну вот и прекрасно, тогда поедемте со мной!
– Куда ж вы меня зовете?
– В здешнюю Швейцарию. Я езжу туда стрелять в оврагах. Но одному, знаете, это занятие быстро надоедает. Вы хорошо стреляете из пистолета?
– Когда-то стрелял недурно. Не знаю, что выйдет сейчас.
– Ну вот и посмотрим! Одевайтесь, а я подожду вас внизу.
Я хотел сперва отказаться от этого неожиданного предложения, но потом передумал и поехал с ним.
Тряская коляска покатила нас в сторону Арского поля. Задумавшись о чем-то, Степан Иванович рассеянно глядел по сторонам. В ногах у нас стоял ящик с пистолетами.
Мы проехали всю Грузинскую, перемахнули через Арский мост и покатили мимо полей. Несколько раз Ситников оглянулся, будто хотел посмотреть, не едет ли кто за нами. Наконец слева позади осталось Арское кладбище, и мы остановились на опушке леса. Степан Иванович, расплатившись, отпустил извозчика, и коляска уехала, легко подскакивая на корнях.
– Обратно лучше выйти пешком к немецкому трактиру, – сказал Ситников. – Там и пообедаем. А оттуда добраться до Казани пустяк.
В лесу было очень сыро. Влага, пропитавшая воздух, исходила отовсюду: из трухлявых, гниющих пней, которые сочились, если наступить на них ногой, от заросших мхом деревьев, от не высохшей еще земли. Пахло листвой прошлого года, слежавшейся, перепревшей. Снег уже сошел, но в оврагах, в густых ельниках то и дело встречались изъеденные, покрытые мерзлой коркой сугробы.
Мишенью были игральные карты, которые мы засовывали в трещины коры. Степан Иванович стрелял отменно, попадая с десяти шагов в сердце туза. Я, отвыкнув от пистолета, то и дело промахивался.
Там, в ложбинке, не было ни малейшего ветерка, и облачко дыма от каждого выстрела подолгу не расходилось.
Стрелять очень скоро мне наскучило, и я только заряжал пистолеты.
Ситников стрелял сосредоточенно, с каким-то хмурым упорством, подолгу целился, прищуриваясь, поджимая губы, и за все время не произнес ни слова.
После очередного выстрела я подошел к дубу, в который мы стреляли, чтобы сменить карты, и, когда обернулся, вдруг увидел, что Степан Иванович целится в меня.
– Что это с вами? – сказал я. – Верно, я похож на валета?
Ситников молчал. Глаз его был прищурен. Дуло глядело мне в лоб.
– Что означает эта дурная шутка? – крикнул я. Все это было дико, невозможно.
Рука его задрожала, и Степан Иванович опустил пистолет. Я сделал к нему несколько шагов. Он стоял бледный, на лице его выступил пот. Он нервно улыбнулся.
– Хорошо, считайте, что это была дурная шутка. Допустим, что мне хотелось посмотреть, как ведет себя человек перед смертью…
Степан Иванович как-то странно засмеялся. Все это было выше моего понимания. Я вне себя от злости швырнул остатки колоды в снег и зашагал прочь.
На несколько дней по делам службы мне пришлось выехать в Тетюши. На обратном пути на одной из станций мне встретились пленные поляки, которых гнали по этапу в Нерчинскую каторгу. Было уже темно, их пересчитывали с фонарем и загоняли в сарай на заднем дворе. Прапорщик, начальник этапа, рассказал мне, что двое из них уже умерли по дороге и неизвестно, скольких он приведет в Нерчинск. Когда им раздавали ужин, я зашел с прапорщиком в сарай, там были коптящий фонарь, чадящая печка, кашель, сырость, грязная одежда. Я попытался заговорить с ними, но поляки молчали. Я еще подумал, что они боятся прапорщика, и, когда мы выходили, незаметно бросил на лавку у самых дверей деньги, которые так могли им понадобиться. Там было около ста рублей ассигнациями. Но только мы вышли и солдат задвинул засов, как поляки стали стучаться в дверь. Им открыли, и кто-то из них швырнул ассигнации к моим ногам.
В первый же вечер по приезде я увидел на своем пороге Степана Ивановича.
– Что вам угодно? – холодно спросил я.
– Александр Львович, мне нужно поговорить с вами!
– Я устал с дороги. К тому же, признаюсь, у меня нет никакого желания беседовать с вами.
– И все-таки я должен вам кое-что объяснить…
Мы прошли в комнату.
– Я чувствую, как опять ко мне подступает эта проклятая лихорадка, – сказал он, – но прошу вас не объяснять болезнью то, что я сейчас скажу вам.
Вид у него действительно был болезненный. Похоже, скоро должны были начаться приступы.
Степан Иванович долго молчал, собираясь с мыслями. Потом сказал:
– Там, в лесу, я имел намерение убить вас, потому что это я был в Ундорах, это я имел неосторожность раскрыть перепуганному старику мой план. Он принял меня за провокатора. Вы сами понимаете, что никто не должен был знать об этом. Но вы каким-то непонятным образом обо всем догадались.
– Что же вы не выстрелили?
– Александр Львович! Неужели вы не понимаете, что та жизнь, которой вы живете, недостойна вас?! Вы – человек с душой и совестью, зачем вашим молчанием, вашей бездеятельностью вы множите общую подлость? Я говорю все это только потому, что вижу – вы порядочный человек. Вы не должны унижать самого себя!
– Я не понимаю, о чем вы.
Ознакомительная версия.